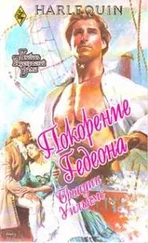Я начинаю чувствовать, как английский язык тяжелеет от этой войны. У всех, кого я встречаю, есть собственные слова для туалетной бумаги, и все они точно передают его значение и предназначение. Но есть лишь маленькая горстка слов, которые могут по-настоящему передать все ужасы войны.
Ужас. Это истерзанность войной. Мы используем это слово, когда у нас больше нет других. Нам тяжело описывать какие-то вещи, например, таким, как я. Может быть, поэту удалось бы увидеть в словах нечто большее, чем то, что написали лексикографы в Словаре.
Но я не поэт, моя любовь. Слова, которыми я владею, слишком бледные и легкие по сравнению с мощью войны. Могу сказать, что здесь мерзко, что здесь грязь грязнее, сырость — сырее, а звук флейты, на которой играл немецкий солдат, — самый прекрасный и тоскливый из тех, что мне когда-либо доводилось слышать. Только ты не поймешь. В Словаре доктора Мюррея нет слова, которое смогло бы описать здешнюю вонь. Могу сравнить ее с запахом рыбного рынка в жаркий зной, запахом сыромятни, запахом морга или помойки. Все эти зловония проникают в тебя и оседают в твоем горле и животе в виде спазмов. Даже если ты представишь себе что-то ужасное, здешняя реальность окажется еще ужаснее. А кровопролития? «Таймс» описывает их списком погибших и бесконечными столбцами имен, набранными шрифтом «Монотип модерн». Но у меня нет слов, чтобы передать все мои душевные муки при виде тлеющей в грязи папиросы, хотя губы, которые ее держали, уже развеяны ветром. Я сам давал ему прикуривать, зная, что эта папироса будет для него последней. Так уж получается. Мы даем прикуривать, киваем, смотрим им в глаза, а потом посылаем в атаку. Какие тут могут быть слова?
Сейчас время отдыхать, а мы не можем. Наш мозг никогда не находит покоя. Скоро снова начнется ад, поэтому все пишут письма домой. Женам троих солдат и матерям четверых придется писать мне. Нам запрещено описывать ужасы войны (как будто это вообще возможно), но многие пытаются. Сегодня ночью я должен подвергнуть их письма цензуре и вычеркнуть слова у тех ребят, которые едва умеют писать, и у тех, которые могли бы стать поэтами. Ради спокойствия матерей я готов перечеркивать их письма, но я подумал о тебе, Эс, о том, как ты попытаешься спасти сказанное теми ребятами, чтобы лучше понять их слова. Они простые, но собраны в причудливые предложения. Я записал каждое слово и приложил отрывки их писем. Ничего не исправлял и не сокращал, и каждый листочек подписал именем его автора. Никто не почтит их лучше, чем ты, Эс.
С вечной любовью,
Гарет
P. S. Аджит оказался уязвимым.
* * *
В нашем доме свет горел только в коридоре, но мне его хватало. Я села на нижнюю ступеньку лестницы, не снимая пальто, и снова перечитала письмо Гарета. Затем я просмотрела все слова, которые он вычеркнул из писем солдат и переписал для меня. Прошло несколько часов, и меня охватил холод. Я посмотрела на дату письма: оно было отправлено пять дней назад.
Я дошла до Саннисайда, пробралась на кухню и поднялась наверх. Лиззи храпела. Я постаралась открыть дверь как можно тише, взяла покрывало и устроила себе гнездышко на полу.
Утром я проснулась от тихого шуршания Лиззи. Увидев, что я открыла глаза, она отругала меня за то, что не разбудила ее ночью. Я рассказала ей о письме Гарета, и она помогла мне улечься в постель, еще хранившую тепло ее тела.
— Пойду убирать Скриппи, а ты спи, — сказала она, укрывая меня одеялом.
Только мне не спалось. Когда она ушла, я перегнулась через край кровати и достала сундук. «Женские слова и их значения»: он сказал, что есть на каждой странице. Я взяла словарь в руки, вдохнула аромат кожи и открыла первую страницу. Целый год он работал над ним.
* * *
Когда мы закончили уборку в Скриптории, я обрадовалась, что мне нужно было еще идти в больницу. Может быть, Гарет будет доставлен туда. Чего он лишится? Руки? Ноги? Разума, как Берти?
— Добрый вечер, мадам, — сказал Ангус. — Весперманжо уже приносили. Мы с Берти славно поболтали о картошке. Я предположил, что ее разбавили акво, и он согласился.
— У меня все хорошо, спасибо, Ангус.
— Не обижайтесь. Я не спросил, как у вас дела, хотя и мог бы. У вас все хорошо?
— Да, я просто устала.
— А у нас в палате новенький. Язык у него слишком длинный. Извел всех сестер. Никакого уважения к другим. Я слышал, что его прозвали Однорукий Снайпер — во Франции он убивал винтовкой, а здесь — языком. Говорят, он в Редклиффе уже давно. В другой палате, наверное, довел всех до белого каления, поэтому его к нам перевели.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу