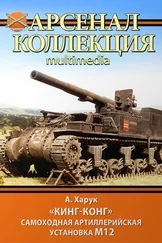— Однажды еще малым сосунком я наделал полный хеймес из картошки, вот бабушка меня так и прозвала.
— Что такое «хеймес»?
— Бардак.
— Что ж, прозвище у вас тот еще хеймес.
— Значит, и мне про вашу фамилию можно не смолчать? «Го», говорите? Духу моего здесь сейчас же не будет, если скажете, что по имени вы «Ого».
Сестра Го услышала, как сзади кто-то хихикнул, и сама с трудом спрятала улыбку. Ничего не могла с собой поделать. Отчего-то в присутствии этого человека у нее внутри становилось легко.
— Я вас уже где-то видела, офицер Катоха, — сказала она.
— Просто Катоха. Вы могли видеть меня поблизости. Я вырос в четырех кварталах отсюда. Уже давным-давно. Работал следователем в Козе.
— Ну что ж… может, тогда и видела.
— Но то было двадцать лет назад.
— Я здесь была и двадцать лет назад, — ответила она задумчиво.
Потерла щеку, разглядывая Катоху, казалось, очень долго, потом ее глаза блеснули и на лице появилась лукавая улыбка. С улыбкой в ней проявилась неприкрытая, натуральная красота, заставшая Катоху врасплох. А эта женщина, подумал он, не промах.
— Знаю, — сказала она. — На Девятой улице, рядом с парком. В старом баре. Ирландском. «Реттиген». Вот где я вас видела.
Катоха покраснел. Несколько певчих заулыбались. Усмехнулись даже Кузины.
— Не скрою, бывал там время от времени на деловых встречах, — сказал он с иронией, взяв себя в руки. — Если не секрет, скажите, вы и сами там выпивали? В то же время? Когда меня видели?
— Обоже! — раздался приглушенный смешок от кого-то из хора. Слова прозвучали слитно, как две сложенные монетки: «обоже!» Становилось интересно. Хор рассмеялся. Теперь пришел черед сестры Го краснеть.
— Я не шляюсь по барам, — торопливо ответила она. — У меня работа прямо напротив «Реттигена».
— Работа?
— По дому. Убираюсь в большом особняке. Работаю на одну семью уже четырнадцать лет. Если бы мне давали пять центов за каждую бутылку, что я подбирала по понедельникам на тротуаре у «Реттигена», я бы уже сколотила состояние.
— Я свои бутылки пил внутри, — небрежно ответил Катоха.
— Меня не волнует, где там ваши бутылки, — сказала сестра Го. — Мое дело — убирать. И неважно что. Грязь везде одинаковая.
Катоха кивнул.
— Но одну грязь счистить труднее, чем другую.
— Ну, смотря о чем речь, — сказала она.
Казалось, свет в зале меркнет, и Катоха ощутил некое сопротивление. Как и она. Катоха бросил взгляд на хор.
— Можно переговорить наедине?
— Конечно.
— Может, в подвале?
— Там слишком холодно, — сказала сестра Го. — Пусть они там репетируют. Там стоит пианино.
Хор с облегчением поднялся и гуськом скрылся за задней дверью. Когда мимо проходила Нанетт, сестра Го поймала ее за запястье и тихо сказала:
— Забери Толстопалого.
Замечание было сделано вскользь, но Катоха заметил, каким взглядом обменялись прихожанки. Что-то это значило.
Когда дверь закрылась, она повернулась к нему и спросила:
— Так о чем мы с вами беседовали?
— О грязи, — сказал Катоха.
— Ах да. — Она снова села.
Теперь он видел, что она не просто миленькая, а берет скорее тихой, нарастающей красотой. Высокая, средних лет, лицо еще не иссекли строгие морщины церковного народа, повидавшего слишком много и не совершавшего в связи с этим ничего, кроме молитв. Лицо было твердым и решительным, с гладкой молочно-коричневой кожей; густые волосы с проседью, ровно уложенные; изящная и гордая фигура в скромном платье с цветочным узором. Она сидела на скамье прямо; осанка под стать чопорной танцовщице балета, и в то же время из-за худых локтей, которые она свесила перед собой с поручня, из-за ленивого позвякивания ключей в руке и выражения, с каким она разглядывала белого копа, в ней чувствовались легкость и уверенность, которые слегка выбивали его из колеи. Потом она откинулась назад и уложила стройную коричневую руку на верхний край скамьи — движением грациозным и гибким. Двигается, подумал Катоха, что твоя газель. Внезапно он обнаружил, что с трудом собирает мысли в кучу.
— Вы сказали, какую-то грязь счищать труднее другой, — сказала она. — Ну, такая у меня работа, офицер. Я, видите ли, горничная. Работаю с грязью. Гоняю грязь день-деньской. Грязь меня не любит. Не садится на место и не говорит: «Вот я прячусь. Приходи и убери меня». Приходится поискать, чтобы вычистить. Но я не обижаюсь на грязь за то, что она грязь. Как можно обижаться на что-то за то, что оно такое, какое есть. Из-за грязи я сама такая, какая есть. Каждый раз, когда я избавляю от нее мир, то делаю его для кого-то чуточку лучше. Так и у вас. Те, кого вы ищете, всякие мерзавцы, они не говорят: «Вот он я. Арестуй меня». Большинство приходится искать, вычищать так или иначе с улиц. Вы несете правосудие, а от этого мир для кого-то становится чуточку лучше. В каком-то смысле у нас с вами одна работа. Мы убираем грязь. Подчищаем за людьми. Собираем чужой мусор, хоть, наверное, и нехорошо звать того, кто живет неправильно, проблемой, или мусором… или грязью.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу




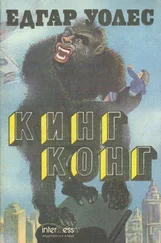

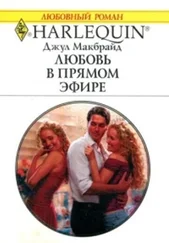


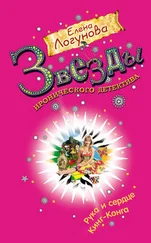
![Виржини Депант - Кинг-Конг-Теория [litres]](/books/394102/virzhini-depant-king-kong-teoriya-litres-thumb.webp)