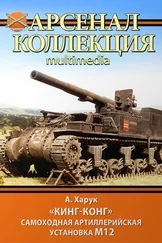На этот день — третий — Пиджак заснул, пока еще было светло, и приснилась ему она.
Впервые со времени своей смерти она появилась молодой. Коричневая кожа блестящая, лоснящаяся и чистая. Глаза распахнутые, искрятся от воодушевления. Волосы заплетены в косички и красиво уложены. На ней было коричневое платье — он его помнил. Хетти сама его сшила на материной швейной машинке. Украшено с левой стороны, над самой грудью, желтым цветком.
Она появилась в подвальной котельной Руфуса с таким видом, словно только что выпорхнула с воскресного церковного пикника в родном Поссум-Пойнте. Села на старую кухонную раковину, лежавшую на боку. Опустилась легко, без усилия — воплощение грации, словно садилась в кресло с подлокотниками и воспарила бы, если бы оно опрокинулось. Скрестила красивые ножки. Уложила коричневые руки на коленях. Пиджак уставился на нее. В коричневом платье с желтым цветком, с уложенными волосами, с коричневой кожей, мерцающей под каким-то тайным источником света в сыром и темном подвале, выглядела она мучительно прекрасно.
— Я помню это платье, — начал он.
Она ответила печальной, скромной улыбкой.
— Ну тебя, — сказала она.
— Правда, припоминаю, — сказал он. Неловко пытался загладить их предыдущие споры, сразу встречая комплиментом.
Она посмотрела на него грустно.
— Кажется, ты живешь тяжело и неправедно, Каффи. Что же случилось?
Каффи. Она не называла его так много лет. С самой молодости. Звала папочкой, или милым, или дурнем, или иногда даже Пиджаком — прозвищем, которое сама презирала. Но Каффи — редко. Это что-то из старины. Из других времен.
— У меня все хорошо, — бодро ответил он.
— И все же случилось столько плохого.
— Ни чуточки, — сказал он. — Теперь все чудно. Все исправлено. Окромя денег Рождественского клуба. А это можешь исправить ты.
Она улыбнулась и посмотрела на него тем самым взглядом. Он уже и забыл тот самый взгляд Хетти — ее улыбку, полную понимания и принятия, говорившую: «Все пустяки прощены, я смиряюсь с ними и со всем прочим: с твоими провинностями, твоими кривыми и косыми дорожками — со всем, потому что любовь наша есть молот, выкованный на наковальне божьей, и даже твоему самому дурному невменяемому поступку ее не переломить». Тот самый взгляд. Он растревожил Пиджака.
— Я вспоминала родину, — произнесла она.
— Да ну, что было, быльем поросло, — отмахнулся он. Она не обратила на это внимания.
— Я вспоминала луноцвет. Помнишь, как я гуляла по лесу и собирала луноцвет? Который распускался по ночам? Обожала его без памяти. Обожала его запах! Я уж и позабыла все!
— Да ну, ерунда, — сказал он.
— Ой, брось! Так уж он пах, так пах. Как ты мог забыть?
Она встала, сцепив руки у груди, осмелев от воодушевления любви и молодости — это ощущение он уже напрочь забыл. Это влечение ушло так давно, что казалось неправдой. Новизна любви, великая свежесть молодости. Он смешался, но попытался скрыть это, сказав «пф-ф-ф». Хотелось отвернуться, но не получалось. Такой она была красивой. Такой молодой.
Она снова села на раковину и, заметив выражение его лица, наклонилась вперед и игриво коснулась его руки. Он не сдвинулся, но насупился: боялся поддаться моменту.
Она снова выпрямилась, уже посерьезнев, игривости как не бывало.
— На родине, в детстве, я гуляла по лесу и собирала луноцвет, — сказала она. — Папочка мне выговаривал. Ты его знаешь. Жизнь цветной девочки ломаного гроша не стоит. А он хотел, чтобы я поступила в колледж и все такое. Но меня тянуло к приключениям. Мне было семь-восемь лет, скакала по лесам, как кролик, резвилась, делала то, что говорили не делать. В какую же даль приходилось забираться, чтобы найти эти цветы. Однажды я забрела в чащу, услышала крики и вопли — и тут же в кусты. Вопли были такие громкие, что мне стало интересно и я подкралась, и кого я вижу, как не тебя с твоим папочкой. Вы пилили большущий старый клен поперечной пилой.
Она помолчала, вспоминая.
— Ну, он пилил. Он был пьян, а ты был еще совсем крошка. И вот он мотал тебя туда-сюда, как куклу, урабатывая пилу вусмерть.
Она усмехнулась.
— Ты старался как мог, но выбился из сил. Мотался туда-сюда и наконец свалился. А твой папа до того допился, что бросил свой конец и попер на тебя. Схватил рукой за шкирку и заорал так, что я никогда не забуду. Всего одно слово.
— «Пил и », — грустно сказал Пиджак.
Какое-то время Хетти задумчиво сидела.
— «Пил и », — повторила она. — Подумать только. Так с ребенком разговаривать. Нет на свете ничего хуже, чем мать или отец, которые жестоко обращаются с детьми.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу




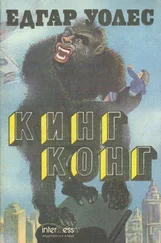

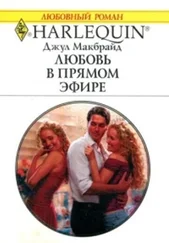


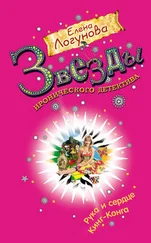
![Виржини Депант - Кинг-Конг-Теория [litres]](/books/394102/virzhini-depant-king-kong-teoriya-litres-thumb.webp)