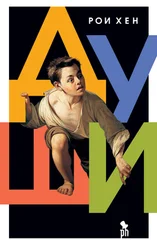– Да простит мне Господь. – Она поцеловала мальчика в лоб и рухнула в свое кресло в изголовье его постели, укуталась в шаль.
Скоро она погрузилась в сон. Из соседней комнаты доносились похрапывания отца, который не был татэ.
Гедалья не смыкал глаз. Чужой своему телу, он подвигал пальцами в темноте, словно натягивая новую кожаную рукавицу. Дышал он тяжело. Однако вскоре стесненные чувства сменились ощущением внутренней свободы, наполнившим его грудь. То был поистине чудесный миг, единственный в своем роде, миг, когда в одном теле, под одеялом на маленькой кровати, лежали двое, бывшие одним, – Гедалья и Гец. Из глаз Гедальи выглядывал худенький бледный мальчик, которому также было девять лет. Знакомить их было не надо.
Души дорогие, умоляю вас, только не надо вытаскивать и бряцать всеми этими понятиями, всеми этими “диссоциациями” и “деперсонализациями”. То не было ни уходом от реальности, ни раздвоением личности, напротив, это был союз, воссоединение, нить, которая протянулась от мальчика, повесившегося в окрестностях Хорбицы, к живому и дышащему мальчику, родившемуся сто лет спустя в Венеции.
Гедалья-и-Гец скинули с себя одеяло и опустили босые ноги на холодный пол. Нетвердыми шагами подошли к окну и взобрались на стоявший под ним стул. Распахнули настежь деревянные жалюзи и, чтобы те не стучали на ветру, закрепили железными крюками, выкованными в форме маленьких человечков. Словно впервые в жизни увидел Гедалья пейзаж, открывавшийся из этого окна с самого момента его рождения: совсем близко стена дома напротив, красная черепица, по которой месяц рассы́пал толику белого своего света. Улочка внизу была настолько узкой, что голубям пришлось научиться взлетать с нее вертикально. Мальчики купались в прохладном ночном воздухе, совсем как белье, развешанное на натянутых между домами веревках.
– Это Венеция, Гец, – прошептал Гедалья, – это гетто, Гец.
Минуточку, дорогие души, какой же я идиот. Я все талдычу “гетто, гетто, гетто”, а ведь следует освободить это слово от оков коннотаций и контекстов, только и знакомых современным читателям. Гетто в Венеции было первым гетто в мире, оно было создано в Каннареджо, где располагались мастерские по выплавке железа, по-итальянски – джетто. И не меньше, чем власти желали заточить евреев меж его стен, стремились затвориться среди своих и сами евреи.
Гетто было государством в государстве, в котором бурлила жизнь, – государством, вобравшим переселенцев со всех концов света: левантинцы с Востока, понентинцы из Испании и Португалии, тедески из Германии и местные итальянцы. Проповедники в богато украшенных синагогах привлекали и христианских слушателей. Из Академии музыки доносились мадригалы, из игорных домов – вскрики отчаяния при проигрыше и ликующие возгласы при выигрыше. Конечно, ворота в стене гетто запирались с полуночи до восхода солнца, но это лишь вселяло в евреев ощущение безопасности, точь-в-точь как и гондола со стражниками, курсировавшая вокруг гетто в ночное время.
На следующий день Гедалья проснулся в полдень. Он не помнил, как вернулся в постель, а от чудесного чувства, переполнявшего его ночью, осталось лишь смутное воспоминание, ничего такого, что можно было бы выразить словами.
– Как ты себя чувствуешь, получше? – с подозрением спросила Дженероза, и мальчик кивнул в ответ, лишь бы успокоить ее.
– Чудно, picinin , – сказала она, – я тут, буду рядом. Никуда не ухожу.
А через несколько дней она покинула их дом и уехала из Венеции. Разборчивая вдова наконец ответила согласием на предложение сватов, присланных из Рима евреем, жена которого погибла при пожаре.
Гедалья был вынужден вернуться на ученическую скамью в бейт-мидраше, потому что “больной сын – это плохо для коммерции”. По утрам он предавался талмудическим спорам в паре с Йехудой Мендесом, после полудня учился счету, составлению долговых векселей и письму на языке страны, а еще разучивал Псалмы. В дни траура, вместе со всеми, читал Книгу Иова, в праздники – святые свитки, а когда общину охватывал общий упадок духа, читал Притчи Соломоновы. Но что-то изменилось в нем. То он без причины пускался в слезы, то не мог усидеть на месте, читал предложение и тут же его забывал. Повешенный мальчик всосался в его кровь, и осталось лишь ощущение душащей веревки на шее.
Все стало меняться после тринадцатилетия, когда он вступил в возраст исполнения заповедей. Раввин Авталион с пеной у рта оспаривал еретическую идею, привлекавшую все больше сторонников среди евреев Венеции, – идею о переселении душ. Гедалья сидел в толпе слушателей, когда раввин читал из книги “Сын Давидов” – сочинения рабби Йехуды Арье из Модены [43].
Читать дальше
![Рои Хен Души [litres] обложка книги](/books/436671/roi-hen-dushi-litres-cover.webp)
![Кристофер Мур - Подержанные души [litres]](/books/393804/kristofer-mur-poderzhannye-dushi-litres-thumb.webp)
![Дженни Хендрикс - Небеременная [litres]](/books/401796/dzhenni-hendriks-neberemennaya-litres-thumb.webp)
![Олег Рой - Принцесса отражений [litres]](/books/402144/oleg-roj-princessa-otrazhenij-litres-thumb.webp)
![Дженнифер Роу - Агнец на заклание [litres с оптимизированной обложкой]](/books/414435/dzhennifer-rou-agnec-na-zaklanie-litres-s-optimizi-thumb.webp)
![Марина Крамер - Пластика души [litres]](/books/420217/marina-kramer-plastika-dushi-litres-thumb.webp)
![Джессика Эттинг - Пропащие души [litres]](/books/425399/dzhessika-etting-propachie-dushi-litres-thumb.webp)
![Ольга Болдырева - Тёмные души [litres]](/books/430309/olga-boldyreva-temnye-dushi-litres-thumb.webp)
![Ольга Болдырева - Чужие души [litres]](/books/430426/olga-boldyreva-chuzhie-dushi-litres-thumb.webp)
![Алексис Хендерсон - Год ведьмовства [litres]](/books/431705/aleksis-henderson-god-vedmovstva-litres-thumb.webp)
![Эмили Болд - Тени. Похищенные души [litres]](/books/431988/emili-bold-teni-pohichennye-dushi-litres-thumb.webp)
![Татьяна Бочарова - Черное облако души [litres]](/books/438670/tatyana-bocharova-chernoe-oblako-dushi-litres-thumb.webp)