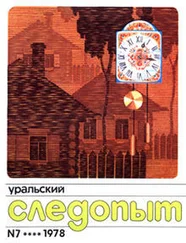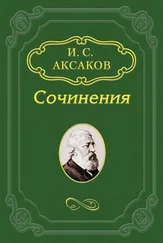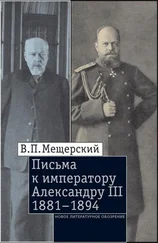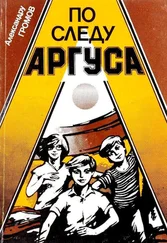В первое мгновение Дэнкуш почувствовал радость от этой спокойной уверенности — значит, он защищен могучей стеной непогрешимости. Где-то существует Генеральный штаб, руководство, которое не даст ему, солдату, офицеру, сражающемуся на передовой, впасть в ошибку.
Потом он испугался, что недостаточно ясно объяснил, неточно передал обстановку — ведь надо было пережить все это, чтобы воспроизвести все оттенки, даже то, что находилось у неосознанных истоков его решений. Он вспомнил о Леордяне, который лежал на столе в темном зале, о царившей там суровой торжественности, вспомнил пронзившую его мысль, что никто больше не должен так умирать и что эта торжественность — протест против безликой жизни, прожитой Леордяном. На миг вспомнился ему и его собственный протест, корни которого уходили так глубоко и который не объяснишь в нескольких словах, вспомнилось лицо Матуса на заседании бюро — решительное, вдохновенное, горящее жаждой действия.
Ничто из этих воспоминаний не дошло до другого конца провода, Дэнкуш сердился на себя, что не смог все как следует объяснить. Ему совсем не удалось передать возникшую особую атмосферу, чувства всех этих людей, их решимость дать последний бой за свое достоинство. Недовольство собой возросло настолько, что в какой-то момент Дэнкуш был почти готов снова заказать Бухарест и объясниться, объясняться до тех пор, пока его не поймут, пока не уравновесятся его волнение и спокойствие товарища, стоящего намного выше его, — может, этот товарищ все-таки был слишком спокоен и уверен в себе, настолько уверен, что, занятый высокими государственными делами, не опускался до понимания конкретных случаев?
Однако Дэнкуш оставил это намерение, расценив его как непохвальное проявление собственных колебаний и склонности все усложнять (в этом его уже упрекали). «Надо быть политиком, человеком с ясной головой, заниматься неотложными делами и заботами, надо вернуться в кабинет префекта — возможно, главный прокурор давно уже там.
Нет, тот еще не приехал, его не нашли. Префекту сообщили, что главный прокурор Стойка отправился вчера на охоту куда-то в горы и вернется лишь через два-три дня. Это сообщение вовсе не рассердило Флореску, напротив, к нему вернулось спокойствие, только стало чуть завидно. «Вот, — подумал он, — у Стойки есть время охотиться, как в былые времена; тогда он целыми днями гонял по лесам и болотам со своими дружками — доктором Попом, доктором Кишем и волостным старшиной Марином. Да что говорить, все наши развлекались, веселились, а по возвращении хвастались трофеями; козьими и оленьими тушами, иногда даже медвежьей шкурой. А я сижу здесь и волнуюсь вместе с этими людьми, которые совсем сошли с ума. И это вместо того, чтобы заниматься своими делами и радоваться жизни, как главный прокурор Стойка и его друзья, которые считают, что все в порядке, и потому для них так оно и есть».
— Стойка охотится, — сказал он квестору Рэдулеску, — какое ему до всего этого дело! Ему хорошо, получает жалованье, молодец! Мог бы и меня позвать, может, а я отправился бы на охоту!
На самом же деле звать его было бессмысленно. Префекта разбирал страх перед насилием, он не разделял грубой радости убийства диких животных, его деликатной натуре было чуждо удовольствие от ходьбы по снегу и холоду. Ему не нравилось уставать, спать на досках жестких крестьянских постелей, покрытых толстыми и колючими домоткаными покрывалами, вставать до рассвета. Ему нравилось все мягкое: пуховые перины, теплая, ласковая вода, в которую он погружал свое тело, расслабляющее тепло натопленных помещений, сентиментальные книги и музыка, которые трогали его до слез. И в особенности трогательные фильмы, немного грустные, но со счастливым концом, заставлявшие его верить, что он — хороший человек, потому что все его поступки, даже если какой-нибудь ригорист и будет судить их строго, в конце концов всегда ведут к добру и к радости. Но в этот момент ему вдруг захотелось на охоту: с пылающим от мороза лицом преодолевать сугробы, слушать дикие крики загонщиков, лай собак, чующих добычу. Уж лучше ему с оружием наготове преследовать зверя, чем самому стать им, быть пойманным в капкан, ждать, когда его разорвут на куски, хоть и сидит он в покое и тиши своего кабинета.
Погруженный в охотничьи фантазии, префект отказался было связаться с прокуратурой, но квестор Рэдулеску все же настоял, чтобы он вызвал помощника главного прокурора, и тот явился почти одновременно с Дэнкушем.
Читать дальше