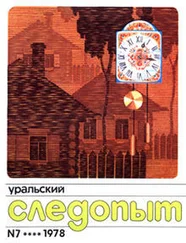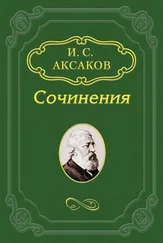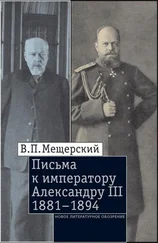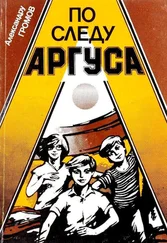— Вставай, — крикнули Матусу друзья. — Бандиты убивают рабочих на станции! Мы поднимаем весь квартал. Приходи скорее и по дороге зови других.
Матус не удивился, не стал ни о чем расспрашивать и быстро оделся. Он сам был резко настроен против спекулянтов, которые процветали в городе, и ждал от них чего угодно.
— Куда ты опять идешь? — крикнула мать, которая не могла заснуть от ревматических болей в эту холодную ночь (в комнате было нетоплено). — Куда ты идешь, ведь ты только что вернулся?
— На вокзал, — лаконично ответил Матус и обратился к сестре, которая тоже натягивала на свои длинные ноги чулки.
— А ты оставайся дома. Это не для тебя. Слышала — они стреляют в людей.
Красавица Елена загадочно улыбнулась и продолжала одеваться. Потом она сказала:
— Может, и я пригожусь. Я ведь проворная.
— С твоим упрямством сам черт не сладит, — сказал, пожимая плечами, веснушчатый Матус; через несколько минут он вышел на мороз, стал стучать в низкие окна — они были здесь почти вровень с землей — и встретился с другими товарищами, которые уже все знали.
Когда они дошли до вокзала, группа образовалась довольно внушительная: двадцать — тридцать юношей, да и там их ожидало больше сотни. Иона Леордяна на вытянутых руках внесли в диспетчерскую, где стихийно организовалась необычная церемония, с маневренными фонарями, которые поставили у него в головах, как свечи, чтобы отдать последнюю почесть железнодорожнику. Полиции не удалось забрать труп — все подозревали о связях Месешана со спекулянтами, и он, растерявшись и понимая, что невозможно силой разогнать эту толпу, которая пользовалась чьей-то поддержкой, не стал докладывать прокурору.
Председатель профсоюза почувствовал себя обязанным держать нечто вроде речи. Впрочем, события и без того развивались стремительно, как пожар в деревянном городе: вагоны были разгружены, зерно отправлено в отдел снабжения железных дорог, к изголовью Леордяна приставлен караул. На месте сформировалось несколько отрядов, которые писали на стенах вокзала, на пустых перронах, на мостовой лозунги с требованием покарать убийц.
Елена Матус, отличавшаяся любовью к порядку, первой подошла к брату, который только что выгнал Месешана, но оставался среди прочих стоять у стола; Елена сказала ему, что надо заявить в уездный комитет партии. Конечно, ячейка вокзала проявила активность, но Елена решила, что этого мало, она по обыкновению не спеша все продумала (даже в такие минуты всеобщего волнения) и поняла, что речь идет о весьма важной, подлинно политической акции, которую невозможно провести, игнорируя власть.
Итак, незаметно, без особого собрания была выбрана делегация, в которую вошли секретарь ячейки (КПР), один старый и очень уважаемый механик, не коммунист, который в ту ночь находился на станции, один мрачный молодой человек, тоже механик, и, наконец, брат и сестра Матусы. Потом, оглядевшись вокруг, рыжий Матус позвал с собой одного из двух своих ближайших друзей, Букура, того, кто потом работал в партийном аппарате, а позже стал заместителем министра.
Еще не рассвело, когда они оказались перед зданием уездного комитета, бывшим домом фармацевта, ушедшего с отступавшими немецкими войсками; они совершили романтическую прогулку по городу, по улицам, обсаженным каштанами, где стояли маленькие кокетливые виллы, построенные теми, кто начал обогащаться в 30-х годах: дома под красной черепицей, с башенками, с ухоженными садами, которые разделяли железные ограды с высокими и затейливыми воротами. Дом фармацевта был построен в чудовищно смешанном стиле (готико-романтико-классико-модерно-китайском), но, к великой гордости хозяина, в нем были не один, а два этажа, а ведь двухэтажный дом уже приближал фармацевта к высоким зданиям Нью-Йорка!
В уездном комитете все было скромно, но меблировка получилась действительно странная: отчасти она состояла из вещей хозяина, в числе которых был высокий буфет, служивший теперь для картотеки, тяжелый обеденный стол, покрытый красной материей, за которым происходили заседания бюро и куда складывались партийные газеты; были здесь стулья, столики и несколько письменных столов, привезенных никто точно не знал откуда. Картины на стенах, в сущности, безобразные — изображение гор, по которым протекали зеленоватые пенистые реки, натюрморты с растрепанными хризантемами, кистями винограда и яблоками, портреты мрачных старцев, курящих трубку, — были заменены портретами классиков марксизма-ленинизма. В двух-трех комнатах поверх дорогих обоев в цветочек, которые так расхваливали друзья госпожи Дарваш из реформатских кругов во время ее чайных церемоний, прибили длинные куски красного полотна, а на их фоне подвесили на крючочках белые буквы лозунгов.
Читать дальше