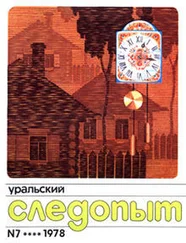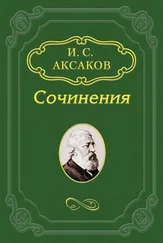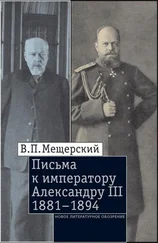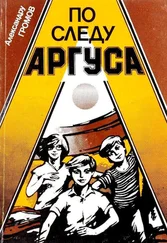«Я ничем не владел. Мною владели другие и даже те правила, которые я сам для себя установил. Теперь уже поздно, я могу только идти своей дорогой до конца, другого пути для меня нет. Мною владеет чуждая мне моя собственная жизнь…» Он опять вспомнил про письмо и сказал себе: «Я сделаю все, что смогу!»
В третьем часу пополудни доктор Шулуциу, одетый в строгий выходной костюм — черный пиджак, выутюженные брюки, — в черном пальто из дорогого материала, в твердой круглой шляпе, с большим букетом тщательно подобранных цветов, был похож на старомодного господина, принарядившегося для торжественного случая. Он шел по улице в сопровождении выразительной фигуры своего личного секретаря.
— Сделаем небольшой крюк, дорогой Кайюс, — сказал доктор Шулуциу, — у нас еще есть четверть часа, и к тому же для нас теперь прогулка не лишена интереса…
Они не пошли прямо, а, дойдя почти до префектуры в центре города, обогнули площадь по людным улицам, с тем чтобы потом выйти на улицу Ветров, переименованную в улицу королевы Марии, потом — на четыре года, во время хортистского режима, — в проспект Адольфа Гитлера, потом опять в улицу королевы Марии (вскоре улицу назовут именем маршала Толбухина). Она была обсажена кругло подстриженными акациями, еще в прошлом веке ее застроили мещанскими домами, перекупленными после первой мировой войны адвокатами и высшими румынскими офицерами. Один лишь дом Дунки не менял своих владельцев, пока внук Григоре не продал его в 1966 году некоему акушеру.
Эта улица, куда направился д-р Шулуциу, была тихой, пустынной, похожей на картинку с открытки: над домами с востока красиво нависала заснеженная гора. На других улицах текли между вокзалом и префектурой толпы народа, ожидая открытия зала, где должен был состояться митинг, назначенный коммунистами. Несколько групп несли плакаты, требующие покарать убийц и спекулянтов, а дома, заборы и даже тротуары были испещрены лозунгами, написанными крупными красными буквами.
В ту пору были весьма распространены воззвания на заборах; буквы их порой кособочились, плясали. Только много позже появились аккуратно выписанные лозунги, вывешиваемые в положенных местах, особо красочные по случаю больших торжеств. Последующие призывы были глубоко, до мельчайших подробностей продуманы и составлены знатоками, которые понимали силу слова; призывы эти рождались в больших кабинетах с обитыми кожей дверьми. Но в те начальные времена лозунги звучали не столько программно, сколько эмоционально, были пестры и стихийны.
В тот февральский день призывы воистину заполнили весь город, и самый рассеянный прохожий не смог бы не обратить на них внимания, поэтому можно сказать, что не только толпы народа, красноречивые, даже когда они молчали, но и стены, заборы, тротуары оглушительно и наперебой голосили, привлекая всеобщее внимание, возбуждая уже пробудившийся народ. Город вышел из состояния будничного безразличия, стал трибуном, оратором.
Кайюс Пинтя, личный секретарь доктора Шулуциу, по молодости еще обладающий живым воображением, взволнованно подумал, что было бы, если бы город вдруг прекратил свое существование, покрылся вулканической лавой, а потом его бы обнаружил и раскопал через века или тысячелетия какой-нибудь удачливый археолог? Что бы понял он, этот человек будущего, по десяткам и сотням надписей, таких злободневных сегодня?
Пожалуй, археолог понял бы, что жизнь города была прервана в какой-то важный момент открытых сражений и восстаний, каких-то столкновений, которые всех втянули в свою орбиту, в решающий момент, когда каждый должен был сделать выбор, оказавшись единственный раз за все свое бесцветное существование перед возможностью великой свободы, которая делает человека настоящим человеком.
Кайюс Пинтя, без колебаний выбравший путь, какой казался ему верным, не мог не откликнуться на красноречивый призыв города, он чувствовал душевный подъем и радость от того, что живет на земле, как бы ни закончилась эта жизнь, пусть даже она окажется не такой победоносной, как ему мечталось. Ему хотелось поделиться своей мыслью о будущем археологе, и он уже обернулся к Шулуциу, но сосредоточенная суровость последнего, говорящая о глубоком раздумье, удержала секретаря.
Доктор Тибериу Шулуциу действительно размышлял, твердя еще один библейский текст, который нравился ему своей древней торжественностью. «Мене, текел, перес» [33] Слова, пророчествующие гибель вавилонскому царю Валтасару, которые, по библейскому преданию, были начертаны во время его последнего пира таинственной рукой на стене дворца.
— так было начертано, — вспоминал он, — на стенах Вавилона». Но был ли он пророком, который точно понимал значение таинственных слов? Ему казалось, что да, хоть он с трудом решался признаться себе в этом. Потому что пророки были судьями со стороны, а он был замешан в жизни нынешнего Вавилона и даже был одним из руководителей и сам нуждался в пророке, который напутствовал бы его. Но он прекрасно знал и то, что вопреки советам любого пророка он поступил бы именно так, как велит ему его собственная натура. Великая грусть доктора Шулуциу проистекала от того, что он был сам себе пророком, грозным и неумолимым.
Читать дальше