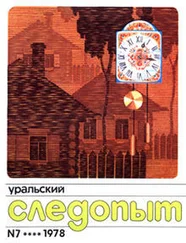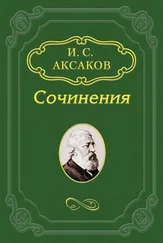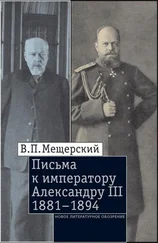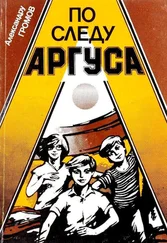Пожалуй, и господин министр Шулуциу, несмотря на всю свою мудрость, не всегда достаточно глубоко понимал его, что видно хотя бы по тому, что он не оказал ему помощи в создании при Клужском университете кафедры политических наук и этики.
При всем своем безграничном высокомерии Пушкариу был все-таки скромным. Лишенный тщеславия, он вскоре забыл, что не получил обещанной кафедры, и теперь, когда восходила его звезда, готов был отказаться от своего детища, как отказалась та, настоящая, мать перед судом царя Соломона от своего ребенка, чтобы он остался жив. Он подарил бы свои идеи, без всяких претензий на собственность, тому знаменитому журналисту, лишь бы они были признаны. Конечно, его порадовала бы и статья со ссылкой на него, но не это было главным. Он углубился в свои мечты и не обращал внимания на вопросы окружающих, на слова, которые не имели ни малейшего касательства до его идей. Все говорили о какой-то «бомбе» — о той обнадеживающей бомбе, которая взорвалась на Хиросиме полгода назад, — она могла изменить соотношение сил.
Среди всеобщего гомона Пушкариу искал укромного места, где мог бы спокойно радоваться тем великим возможностям, которые открывались перед ним. Он потянулся к бесстрастному доктору Шулуциу — единственному человеку, не участвовавшему в общей беседе, устремил на него все внимание, словно между ними существовало молчаливое согласие, и тут же забыл о своей радости. В серых глазах министра он обнаружил, в полном несоответствии с собственным состоянием духа, откровенную грусть, невиданную до сих пор тоску. Обычно доктор Шулуциу на людях скрывал свое настроение… Это встревожило Пушкариу, и он почувствовал себя здесь одиноким. Ни с того ни с сего он вспомнил библейский стих: «И они предали заклятию все, что было в городе, и мужей и жен, и молодых и старых… все истребили мечом…» Пушкариу испуганно и резко оборвал свои мысли. «Неужто нет никакого спасения, и Шулуциу знает это?» — спрашивал он себя и уже нетерпеливо ждал, когда закончится собрание, ставшее теперь невыносимым.
— Дорогой Кайюс, — обратился Шулуциу к своему секретарю, коренастому молодому человеку, которого, казалось, ждет большое будущее. — Будь добр, сходи и купи большой букет цветов, мы пойдем в гости к одной госпоже — ты, если хочешь, будешь меня сопровождать. А пока я оденусь… — И он обратился к собравшимся: — Извините, господа, разрешите мне удалиться.
Все поднялись с кресел. Доктор Шулуциу пожал всем руки, напоминая каждому в отдельности, что они должны снова встретиться в девять часов.
Кайюс вежливо проводил гостей и поспешил в цветочный магазин. Оставшись один, доктор Шулуциу сначала отворил окно, чтобы проветрить комнату от сигарного дыма, и вдохнул в себя свежий воздух. Потом закрыл окно, уселся в кресло и просидел так около четверти часа, пристально разглядывая свои крупные высохшие руки, которые, словно чужие, бессильно лежали на письменном столе.
Сомнений нет — его попросят помочь Паулю, который связался с бандой Карлика и тем самым скомпрометировал себя. Но вдове старого друга ведь не откажешь… «Иляна, вдова д-ра Титу Дунки», — вспомнил он ее подпись… Дочь великого Т. М., который открыл и его самого, — Т. М., в чьей конторе он еще юношей проходил адвокатскую практику, а эта странная девушка уже была обручена с Титу Дункой. Похоже, что, хоть они и были дальними родственниками, Т. М. скорей хотел бы видеть его своим зятем, но он вежливо уклонился, как уклонялся и от других соблазнов, и остался холостяком, без дома, без семьи, — так лучше, гораздо лучше. Он верил, что призван целиком отдаться своему делу, хотя порой и догадывался, что его сдержанность имеет и другие мотивы, более глубокие, и тот факт, что он когда-то был влиятельным министром, отведал упоения властью, не мог заслонить полностью те, другие мотивы.
Они-то и приходили ему на ум в часы, когда он чувствовал себя особенно старым. Илянка медленно всплывала в его памяти — изящная, красивая, светловолосая, в белой шелковой блузке и длинной, до земли, черной юбке, — его охватывало волнение при одном звуке ее шагов, он и теперь помнил нестерпимые перебои сердца, которые отдавались в висках, подступали к горлу, — неожиданное сознание того, что он не владеет собой, что он раб этой молодой девушки, подчиняется желаниям своего тела, своего сердца, оно бьется не как ему хочется, и дыхание не подвластно человеку, и горячий ток крови не послушен ему. Они требуют своего, и словно разум тут ни при чем. Его непомерная гордость страдала при мысли об этом внутреннем, затаенном и как бы неустранимом рабстве, которое иногда принимало имя женщины, в другой раз страха и редко — голода и холода. Но в особенности — имя этой девушки! И тогда он отвергал ее, чтоб доказать себе самому, что он безраздельно владеет хотя бы собой. Ведь нельзя владеть другими, если не можешь обуздать себя. И нельзя оставить в жизни никакого ощутимого следа, если не главенствуешь над другими. Поэтому он и пошел на самоотречение, начиная с наиболее трудного, потому что, возможно, любил ее или по меньшей мере она волновала его сильней, чем что-либо иное на свете.
Читать дальше