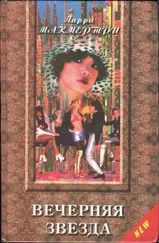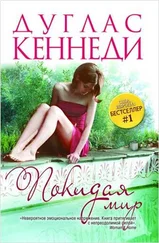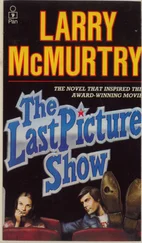Дом Тейлоров был погружен в глухую тьму. Я подумал, что тут не обошлось без проделок Джонни, может быть, он приехал раньше и забрал Молли. Или случилось что-нибудь еще. Вечер был тихий, красивый, не слышно было ни звука. Я привязал лошадей, пересек двор и взошел на крыльцо. По-прежнему ни звука.
— Что за черт! — сказал я и заколотил в дверь что было сил.
— Я сегодня никуда не поеду, Гид, — услышал я вдруг голос Молли. И чуть не свалился с катушек. Она стояла у дверей за сеткой, прижавшись к стене так, чтобы я ее не видел. — Я не могу. Тебе придется ехать без меня, — сказала она. — Я плохо себя чувствую.
— Ох ты, а меня чуть кондрашка не хватил. Во имя всего святого, что же ты свет не зажжешь?
— Не хочу, — сказала она дрожащим голосом. — Я буду сидеть в темноте, Гид.
Стало тихо, и тут, не видя ее, я понял, что она плачет. Она умела плакать, не издавая ни звука. Потом я услышал, как она двинулась в темноте, зацепилась за стол или что-то такое, пробежала через сени, и все снова стихло. Слышался только скрип ветряка.
Я зашел в дом. Молли, ясное дело, плакала, лежа на кровати. В окно светила луна. Я присел, старая кровать скрипнула, моя ладонь легла на руку Молли.
— Ну, лапа, — сказал я, — не расстраивайся. Повернись ко мне и скажи, что у тебя болит, вдруг я придумаю какое-нибудь лекарство.
Она не отвечала, и я слегка обнял ее за плечи, почувствовав, что пока продвигаться дальше мне не следует. Она спрятала голову ко мне под мышку, и было похоже, что ей нравится, что я здесь.
Я пошарил вокруг, наткнулся на спички и зажег лампу. И тут же понял, в чем дело. Под ее глазом устроился синяк, а лицо, шея и весь перед платья были мокры от слез. Синяк был не слишком велик, и от него она выглядела то ли старше, то ли красивее, но синяк был синяком, и я знал, кто его посадил.
— Не смей говорить об отце ни слова, — сказала она. — Я знаю, о чем ты подумал. Он бы ничего такого не сделал, если бы я не вела себя так гнусно.
Она, конечно, врала, но я промолчал.
— Жаль, что так получилось, — сказал я. — Только синяк не такой уж большой, Молли. Незачем из-за этого сидеть в темноте. Завтра он сойдет начисто.
Она вытерла лицо покрывалом, но в ложбинке на шее осталась влага. Лицо ее казалось почти злобным, а я вынул носовой платок и вытер ей эту ложбинку.
— Пусть никогда, нигде больше не будет вообще никаких танцев, — сказала она. — Тогда я про них забуду и перестану переживать. Не видать мне никогда танцев, будь их даже целая сотня. Я, наверное, такая дрянь, что их недостойна.
— Перестань, перестань, — сказал я. — Ты совсем не дрянь, мучиться нечего. Мы можем повеселиться и здесь.
— Но я тут сижу всегда, я не хочу здесь оставаться, я хочу туда, где куча народу.
— О'кей, — сказал я. — Едем. Еще не поздно. Нечего сидеть дома из-за легкой тени под глазом.
Тут она расплакалась пуще прежнего. Откуда у девчонок так много слез? Ничего в ее жизни от этих танцев не могло измениться, но плакала она так, будто у нее разбито сердце.
— Успокойся, — сказал я. — Ведешь себя, как последняя дура. Если хочешь ехать, вставай, вытирай лицо и поехали. Ей-богу, пока мы туда доберемся, все уже так напьются, что не заметят даже трех фингалов. А если ехать не хочешь, все равно — успокойся, пойдем в гостиную, приготовим попкорн или еще что-нибудь. Можешь плакать хоть всю ночь, но этим ты ничему не поможешь.
В конце концов она затихла и лежала, прижавшись ко мне, пока совершенно не успокоилась.
— Вот так лучше, — сказал я. — Ты решила что-нибудь?
— Останемся здесь, — сказала она.
— А где твой отец?
— У него кончился запас виски, пришлось ему ехать в Хенриетту. Наверное, дня на два-три.
Мы перешли в гостиную, развели в камине огонь, и только он нам светил. Молли собралась на кухню за едой, но я схватил ее в охапку, закружил и зацеловал.
— Вот тебе и танцы, — сказал я. — Так еще и лучше, когда нет никакой толпы. А синяк этот тебя просто украшает.
— Сними галстук, — сказала она. — Он царапается.
— С удовольствием. Я от него задыхаюсь.
Я снял галстук, снял и суконный пиджак, а Молли до кухни так и не добралась.
— Давай танцевать, — сказал я. — Сами по себе. Ты спой что-нибудь.
Она положила голову мне на грудь и стала напевать какую-то песню. Я ее крепко обнял, и мы закружились по комнате. От огня в камине все вокруг раскачивалось и колебалось.
— Я путаю мелодии, — сказала она. — Давай лучше музыку будем воображать.
— У меня с воображением плохо, — сказал я, но танцевать мы продолжали. Танец получался страшно медленным. Ее волосы потрясающе пахли. Хотелось послать к черту танцы и целовать ее, целовать. Я остановился и приподнял ее лицо. Мы целовались долго-долго, мне казалось, что вот-вот наступит рассвет, но было темно по-прежнему.
Читать дальше