Но отпылило, отсвистело от начальной юности лет эдак десять, непутно прожитых в городе, так, кажется, душу бы вынул и отдал за бугристый, цвета песчаной земли, ржаной каравай, который долго млел в поду русской печи и который мать, перекрестясь на божницу, прислоняла ребром к мягкой груди и, что-то пошептав сурово сведенными губами, исподлобья посмотрев на едоков, точно вопрошая, заслужили они хлебушко или нет, откраивала первую кривую горбушку, и по кухне степенно плыло дородное тепло, точно тугие синие волны по полю ржи, налитому буроватой спелостью.
Ванюшка с меньшей сестрой Веркой тут же юркими зверушками, пихая друг друга, с двух краев хватали горбушечку — обоим охота хрустящую корочку, — тянули каждый в свою сторону, мать звонко шлепала их по рукам — и горбушка разрывалась на части, а там уж кому что отвалится, там уж куксись не куксись — изо рта не вырвешь, мать не заступится, а скорее еще и поддаст, коль нюни распустишь. Но первая краюха доставалась им редко — отчего и особо помнилась; делила мать хлебушко по вековечному семейному раскладу: сперва голове — отцу, значит, потом старшим дочерям, потом только Ванюшке с Веркой, а уж сама за стол вместе со всеми не садилась, доедала остатки после всех.
Ели теплый хлеб, макая его в густую сметану или горячее топленое сало, запивая чаем, подбеленным козьим молоком, ели, жадно причмокивая и даже от наслаждения прикрывая глаза и чуть ли не урча по-кошачьи, потому что любили материн хлебушко, только что вынутый из русской печи, потому что магазинский еще толком не знали, не распробовали, не вошли во вкус. В это время и саму мать-то любили особенно, открыто, едва удерживаясь, чтобы не кинуться к ней на шею, всю изнежить ее, потому что после стряпни, когда хлеб поспеет, мать неузнаваемо добрела к ребятишкам, хоть и посматривала строго, да не ворчала, как обычно, а уж тем более не раздавала шлепков, как раньше, где за дело, а где и просто так, чтоб не досаждали, не лезли на глаза и не совались под горячую руку.
Отстряпавшись, присядет она, бывало, к столу перевести сморенный дух, утереть утлом запана вспотевшее лицо, и, подперев ладонью щеку, заглядится на Ванюшку с Веркой, сразу же под ее взглядом присмиревших; заглядится как будто бессмысленно расширенными и замершими глазами, перед тем, правда, взглядом же и мимолетно отметив: ишь, ладом уминают хлебушко, добрая попалась мука. Про себя же, наверное, чует, что не только в муке дело, но и в ее руках, да уж стесняется даже про себя похвалиться — дескать, была бы мучка добрая, а выпечь-то и любая баба может. И помянется ей в это время, может быть, сорок третий военный год, когда начали сильно голодовать, когда, хоть разорвись, хоть расшибись в лепешку, не знала, чем накормить пятерых ребят, как растянуть последнюю-горстку ржаной муки, перемешивая ее с отрубями и даже крапивой; и приходилось, чего греха таить, приходилось ясными месячными ночами мести ирниковым веничком поле в тех местах, где стояли после жатвы связанные хлебные суслоны, перед тем как их отвозили на ток. Подметаешь полюшко, как рассказывала мать, подбираешь до последнего зернышка ячмень или рожь, перемешанную с землей, да все с опаской, все с оглядкой — не приведи бог бригадира черт принесет, потому что и за это, подметенное и провеянное в ситьях зерно, чего доброго, еще и засудят. Всяко бывало… Такими же ночами посветлей раскапывали на опустевшем току урганы — глубокие норы, куда мыши стаскивали на зиму зерно, так что и мышам в ту пору жилось не сладко, и этим божьим тварям война досталась. Это теперь им, да вот еще сусликам в поле, сплошное раздолье пришло, харчисто зажили: там из комбайна просыпят, там из машины натрусят, там еще где посеют зерно, и никто ж не пойдет с веничком подметать, когда вон целые куски разбрасывают другой раз… Так вот наметешь, потом землю в ситьях отвеешь, да на ручных жерновах чистое зерно и перемелешь — вот тебе и мучка. Два круглых камня — жернова, с дырками посередине, еще долго жили в хозяйстве, и Ванюшка, уже подросший, придавливал ими соленую рыбу в лагушках, чтобы дала рассол, потом они просто лежали в ограде, и, когда после дождей от грязи было ни пройти, ни проехать, по ним добирались до крыльца, постелив на них плахи… Ну, а раз мука появилась, то в первую очередь, бывало, сваришь ячменную или ржаную заваруху — в других деревнях ее еще затирухой почему-то звали; сваришь, значит, заваруху, в миски наложишь, посередине ямки такие сделаешь — туда маслица положишь, сдобришь заваруху — вот и ешьте, ребятки, вот и праздничек в доме, и не совестно, не страшно смотреть в ребячьи, большие от голода, но не требовательные, а как бы утухающие глаза, которые теперь, когда в чугунке парит заваруха, разом ожили и повеселели. Жалко было на них смотреть, да и у самой от голода сил почти никаких не осталось, но тут же приходила утешная, спасительная мысль: нам-то еще грех жаловаться, стыдно плакаться, а вот в городах-то, говорят, и вовсе пухнут с голода, помирают даже. А нам-то чего уж не жить?! — маломальский, а хлебушко все же есть, да и рыба с картошкой выручают…
Читать дальше
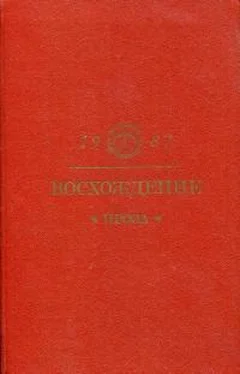


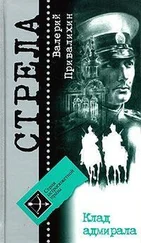




![Валерий Гуминский - Найденыш 4. Восхождение [АТ]](/books/392962/valerij-guminskij-najdenysh-4-voshozhdenie-at-thumb.webp)


