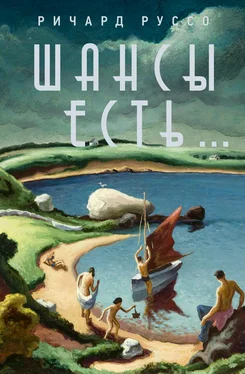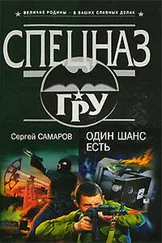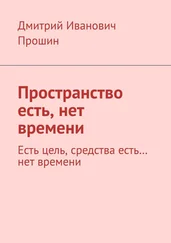И ото всего этого Линкольн затосковал по тому единственному, что было ему недоступно — вернуть своих друзей, всех троих, — и не просто вернуть, а такими, какими были они в Минерве, когда перед ними расстилалась вся жизнь.
На самом деле, сын, надо тебе, — заверил его Вава, — твоей собственной утраченной юности.
Но нет, Линкольн был вполне уверен, что дело вовсе не в этом. Им с друзьями вторая юность полагалась отнюдь не больше, чем второй шанс все сделать по уму. Да и не об утраченной невинности тут речь, потому что к 1971-му всю ее уже растрясло тем, что они узнали о жизни на занятиях, равно как и в корпусе «Тета», не говоря уже о войне и призывной лотерее, которые могли изменить их личные траектории.
А тогда что? — желал выяснить Вава. — Если не юность или невинность — что?
Поначалу Линкольн не понимал, а затем сообразил. Осознал, что на самом деле томится он по наивной убежденности своего поколения, что если мир окажется неискупимо испорчен, им удастся из него попросту сбежать. Если выражаться такими словами, выходит как-то стыдно, но разве не это было центральным догматом их веры? Они верили, что быть правыми насчет той войны, по поводу которой их родители так упрямо не правы, означает, что они в каком-то смысле особенные, а то и даже исключительные. Они изменят мир. Или хотя бы увернутся от самых грубых его стимулов, от его разнообразных взяток и нечистых помыслов. Вольфганг Амадей, возможно, и не прав насчет многого, однако ни он, ни мать, ни кто другой в их поколении не был глуп настолько, чтобы верить, будто можно сбежать из мира, который тебя породил.
«Фольксваген» Беверли задним ходом сдал от бордюра. Линкольн провожал машину взглядом вдоль по Сёркит-авеню, пока не скрылись габаритные огни. «Джо» — вот как называла она своего свекра, не «папа», как иногда о Вольфганге Амадее говорила Анита. И вот именно так Линкольн полностью уверился, что эти двое — не просто друзья или когда-то были больше чем друзьями. Еще одно ядовитое, нежеланное знание.
В кармане завибрировал телефон, и Линкольн подумал, не оставить ли вызов на голосовой почте, но Вольфганг Амадей об этом и слышать не желал. «Труса Бог терпеть не может, сын».
— Линкольн, — произнес Мики.
Не Лицевой, отметил Линкольн.
— Мик. Ты где?
— У тебя. В Чилмарке. Тебе надо привезти Теда.
Не Тедди. Не Тедомотину, не Тедушку, не Тедвижкина, не Тедмарика. Теда .
— Он еще не пришел в себя.
— Уже пришел. Я с ним только что разговаривал.
— Его до утра не выпишут, Мики. Это самое раннее.
— Просто подъедь ко входу. Он будет ждать.
— Мик…
— Давай, Линкольн.
Это приказ, а в нем — или под ним — слышалось что-то такое, чего Линкольн в Мики прежде не замечал.
Ладно, пап, — подумал он. — И что теперь?
Но та связь, конечно, сдохла. Линкольн знал, что цель подобных воображаемых бесед — подготовить себя к тому дню в не таком уж и далеком будущем, когда Вава, как и мать Линкольна, начнет существовать лишь у него в голове. И по времени скверно подгадал к тому ж. Наконец-то на пороге возник тот мир, который, как мнили они втроем, можно изобрести заново, — ну или сбежать из него. И не просто возник, а прямо-таки барабанил в дверь, требуя, чтобы его впустили, и он бы предъявил к оплате давно просроченный счет.
— Скажи зачем, — произнес Линкольн, выставляя собственное требование, хотя, на его слух, звучало оно и капризно, и просительно. — Дай хотя бы одну вескую причину.
— Потому что вам обоим нужно быть тут, — был ответ Мики. — Потому что я, нахер, эту историю расскажу всего раз.
Хотя время года было другим — конец лета, а не начало, — луна вставала над дальними волнами совсем как тогда, в 1971-м. Той ночью воздух тоже был зябким, он-то и загнал их в конце концов внутрь. Дом Мейсона Троера ниже по склону был темен — тоже как тогда. Вчера Мики даже собирался туда прогуляться и сильно запоздало извиниться за то, что ударил мужика. Совсем ли у него зажила челюсть? У самого Мики правая рука, насчет которой к врачу он так и не обратился, дождливыми днями по-прежнему болела и порой отекала. Сам, конечно, виноват, к черту. Отец, который в юности был драчуном, предупреждал его о физическом насилии и об опасностях его, и особенно — об удовольствиях. Когда бьешь, то, что свернуто в тебе, разворачивается в ударе, и это высвобождение… ну что может быть лучше? Начать и закончить драку одним ударом, как Мики удалось с Троером? То был абсолют. Доказательство, что любую работу, сколь бы сомнительна ни была она, можно выполнить на «отлично». В тот день у корпуса «САЭ» Мики действительно думал о своем отце. О Берте. Так все парни из отцовой бригады звали Майкла-старшего, потому что походил он на Берта Лара — Трусливого Льва из «Волшебника из страны Оз». «Эй, Берт, — говорили, бывало, они. — Чем мускусная крыса защищает свой мускус?» И старик его, подыгрывая, отвечал: « Муж-жеством» .
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу