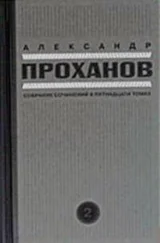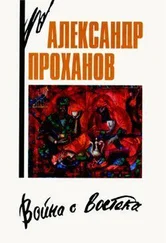На фасаде дома висели памятные доски с именами знаменитых артистов, певцов, поэтов. Марков пошутил, что когда-нибудь среди этих досок появится ещё одна, с именем Куравлёва.
Куравлёв понимал, что квартира — не просто дар. Его продолжают втягивать в длинный, всё сужающийся коридор. Туда его ведут умные, искушённые люди. Они требовали взамен не благодарности, а служения государству. Его вольнолюбивый нрав, его прихоти все больше ограничивались этим служением. Теперь он был не один. Был с теми, кто олицетворял государство.
Ночами он просыпался в своём кабинете, подходил к окну и смотрел на рубиновую звезду, которая заглядывала в его кабинет, надзирала за ним.
Тоска по Светлане то стихала — её затмевали безумные поиски заговора, — то возвращалась невыносимой болью, когда он шёл по Тверскому бульвару и вспоминал, как они целовались у каждого дерева, и за оградой белела церковь, где она стояла у подсвечника, охваченная пламенем, и это сгорала его любовь.
Он не мог удержаться и захотел хоть на мгновение увидеть её, любимую. Поцеловать издалека воздух, в котором она живёт.
Он сел в машину и поехал на Академическую, к дому, где она жила. Встал среди других машин и смотрел на подъезд, понимая, что ждёт напрасно, её появление невозможно.
Подъезд растворился, из него вышел мужчина, высокий, стройный, в летнем костюме, под которым угадывались сильные мускулы. Это был Пожарский. Он подошёл к серой новенькой “Волге” и поправил зеркальце. Дверь снова растворилась, и вышла Светлана. Она была в лёгкой блузке, которая открывала её белую гордую шею. Она подошла к Пожарскому, прижалась к нему. Он обнял её, отворил дверцу машины. Светлана села, и Куравлёв увидел её ногу в туфельке с острым каблучком. Пожарский сел за руль, и “Волга” умчалась в арку дома, унося Светлану, чтобы Куравлёв её больше никогда не увидел.
Куравлёв не мог объяснить, когда кончилась его привычная, предсказуемая жизнь, и он ступил в поток. Его понесло, закрутило, ударяло о берега. В этом круженье открывались всё новые повороты, всё новые обстоятельства, которые он уже не стремился осмыслить, отдаваясь потоку.
Неожиданным оказалось приглашение на дачу Георгия Макеевича Маркова. Она находилась в Переделкине, в писательском заповеднике среди солнечных сосен. Бор был столь свеж и не тронут, что у подножья сосен росла брусника и стеклянно переливались муравейники. Дача Маркова была просторной, деревянной, в два этажа, с летней верандой. На веранде был накрыт стол. Марков встретил Куравлёва в домашней блузе, мягкий, чуть заспанный, не похожий на строгого, величаво ступавшего секретаря.
— Не обедали? — спросил он Куравлёва. — Составьте компанию. Сегодня у нас щавелевый суп. Анастасия, неси супницу!
Прислужница в белом фартуке и кокетливом кокошнике принесла большую фарфоровую супницу. Марков сам черпал из неё половником, разливая по тарелкам, ухаживая за Куравлёвым.
— Какой щавелевый суп без яичка? — Марков постучал по столу крутым яйцом, аккуратно, чистыми ногтями очистил скорлупу. Разрезал яйцо на две части, обнажив желток, и ножичком скинул половину яйца в тарелку Куравлёва.
— Прошу извинить. Без вина. Лекарства. Все время кружится голова, забываю слова. Поверите, не мог вспомнить, как называется дуршлаг. В руках верчу, а вспомнить не могу.
Марков подошёл к шкафчику, достал флакончик, накапал в рюмочку и выпил, поморщившись.
— Жизнь отмеряю по каплям, — пошутил он, возвращаясь к столу.
Они ели прохладный щавелевый суп. Марков осторожным взмахом руки отгонял назойливую осу.
— Ну, как вам в новой квартире? Я помню, когда там жил Исаковский. Удивительное было время. Его стихотворение “Враги сожгли родную хату.” не хотели печатать. А песню и вовсе запретили к исполнению. Слишком грустная. Такая была цензура. Сейчас нет цензуры, печатай, что пожелаешь!
— Много дурного желают, Георгий Макеевич. Вчера читал, что маршал Жуков был в сговоре с английской разведкой и готовил покушение на Сталина. А ещё читал, что у Брежнева было два желудка. Один работал днём, а другой — ночью. А ещё писали, что Горбачёв — незаконный сын Андропова, а Раиса Максимовна ставит ночью под кровать золотую вазу. Есть вещи и пострашнее. Почему мы молчим, не отвечаем?
— Знаете, Виктор Ильич, я служил на Дальнем Востоке на границе с Манчжурией. Японцы нас обстреливали, устраивали психические атаки. А приказ был: “Огонь не открывать!” Вот мы и терпели, отмалчивались. Зато потом так жахнули, что самураи кверху пятками летели!
Читать дальше