— И эти постмодернистские приемы, Морин…
Можно было бы сказать, что мистер Тенсли использует слово «постмодернистский» как ругательство, подумала Морин, не будь он таким стерильно-вежливым.
Склонив голову, девушка смотрела, как зажатая в белых пальцах ручка рвет острым пером вены ее рассказа, обескровливая его.
Алая капля упала на страницу и расползлась безобразной кляксой.
— Прошу прощения, — сконфуженно забормотал мистер Тенсли, доставая носовой платок и обтирая им перо. Пальцы его тоже стали красными.
— Вы думаете, что вы врач, — услышала свой голос Морин, — что вы вырезаете раковые опухоли из наших сочинений. А вы всего-навсего мясник.
В отличие от забрызганной красным тетрадки, белое и гладкое, словно отутюженное, лицо мистера Тенсли не обрело ни кровинки. Безупречная линия безгубого рта не изменилась, а в эмалевых глазах застыло выражение скорбной решимости.
— Извольте покинуть класс.
***
Отвернувшись к окну, я смотрела, как по соседним рельсам катятся, не отставая от поезда, два блика — голубые, как глаза мистера Тенсли. Пленительное слово «эмалевый» оказалось в итоге столь же губительным для описания, как нежнейшее пирожное — для балерины. И как балерина смотрит на роковую отметку, стоя на весах, так и я смотрела сейчас на разлинованную бумагу, покрытую корявыми буквами.
Главное отличие меня от балерины — мою ошибку исправить куда легче.
И все-таки, почему всё полезное всегда так невкусно? — думала я, погребая свою претенциозную находку под толстым слоем чернил и вписывая сверху низкокалорийное привычное обозначение цвета. Это всё мое пагубное тяготение к тому, что тонко, дрожаще, изогнуто до манерности. Подцепив на кончик ручки очередной образчик такого рода, я испытываю нечто, похожее на азарт (как напряжены и дрожат руки, сжимающие поводья горячей, готовой к скачке лошади). Я связываю найденные образы своими субъективными ассоциациями, строю метафоры на непонятных читателю цитатах и именах, развешивая их по всему рассказу, как фигуры в «Голконде». Мне кажется: я нашла что-то, но стрелка весов — моих собственных весов — бесстрастна, как и любая стрелка.
***
До конца занятий оставалось полчаса, коридор был пуст. В туалете тоже было тихо, хотя колечки дыма, плывущие по воздуху, говорили о присутствии здесь весьма сложной формы жизни.
Во всем университете лишь одно существо женского пола умело пускать такие колечки. И это было не единственным его достоинством.
Одногруппницу Морин Дину можно было назвать Фридой Кало от литературы. Правда, живописала она страдания не телесные, а душевные. От матери Дина унаследовала шизофрению, и вся ее жизнь состояла из бездонных депрессий, сменявшихся недолгими, но бурными эмоциональными подъемами. Нерадивая фея-крестная, когда-то неловко воткнувшая девочке шпильку прямо в голову (образ, которым Дина чаще всего описывала свою болезнь), загладила вину, наградив ее литературным даром и отчаянным желанием жить. Дина научилась использовать кратковременные подъемы, как серфингист — волну, и, взлетая на ослепительную высоту, описывала то, что видела в бездне.
Писала она потрясающе. Лучшие ее вещи заставляли Морин пристыжено сминать собственные листы.
— Я думала, тебя сегодня нет на занятиях, — сказала Морин.
— А меня и нет, — резонно заметила Дина. Вид у нее и правда был отсутствующий.
Морин умылась холодной водой, слушая, как Дина озвучивает теснившиеся в голове идеи. Она никому их не адресовала, а просто говорила в пространство, словно продолжала пускать колечки дыма.
— Что, если печатать слова в книге разными красками? Или даже отдельные буквы. Сколько всего можно было бы передать! Оттенки настроения, разные значения омонимов… Вот тогда слова, звуки действительно начали бы играть.
— А я бы хотела уметь описывать предметы, не называя их. Как Джейн Остин — лунную ночь, — Морин надела очки.
— Это просто, — улыбнулась Дина и подняла голову.
Странно было видеть это: сумасшедший алмаз, небрежно завернутый в какую-то тряпку, — на полу в туалете.
Обтрепавшиеся джинсы и спутанные черные волосы.
Внезапно Морин показалось, что она видит в этих волосах предмет, воткнувшийся Дине в голову.
Это был терновый шип.
***
Удивительно, какой важной может оказаться одна маленькая и, казалось бы, досадная случайность. Паста в ручке закончилась в самый неподходящий момент, зато на самом дне сумки отыскался замечательный, изгрызенный с одного конца зеленый карандаш, который я была готова расцеловать за идею. Мне показалось, что монолог Дины о литературе сделает образ более конкретным и ясным.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу
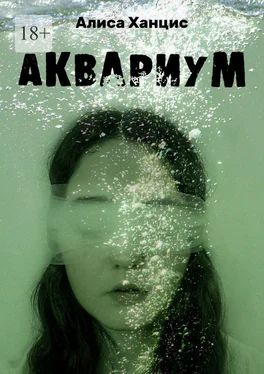
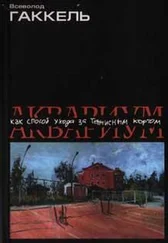






![Виктор Суворов - Аквариум [Новое издание, исправленное и переработанное]](/books/405026/viktor-suvorov-akvarium-novoe-izdanie-ispravlenn-thumb.webp)



