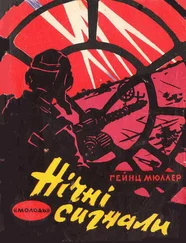— Из окна можно видеть.
— Вот как? — Бергеман приподнялся на койке. Учебник его при этом завалился за кровать. — И что же он там делает?
Петцинг пожал плечами:
— Трудно сказать. Для этого нужно сильно высунуться из окна, а я не переношу высоты: меня тошнить начинает.
Штриглер, повернувшись лицом к стене, лаконично произнес:
— Это от пьянства, а не от высоты.
Якоб уже взялся за дверную ручку, как вдруг ефрейтор спросил его:
— Не исчезай так внезапно, скажи хоть, она очень интересная?
— Оставь свои небылицы при себе, — оборвал его унтер-офицер.
— Не прикидывайся, наверняка с какой-нибудь девчонкой встречаешься на пляже! — продолжал допытываться Бергеман.
— А тебе никогда не приходилось ошибаться?
— Приходилось, — честно признался Бергеман, — и однажды весьма жестоко. Это было тогда, когда мы должны были повезти пианино доктору Мюллеру. Он жил на Рюдесхаймерштрассе, девяносто шесть, на седьмом этаже. Мы позвонили у двери, нам открыла какая-то пожилая тощая дама. «Да, конечно, я доктор Мюллер, — сказала она, — но музыкой я не занимаюсь. Я лингвист и только что вернулась из Центральной Африки». После долгой беготни по этажам нам удалось выяснить, что пианино принадлежало ее брату, преподавателю музыки доктору Мюллеру, который жил на той же улице, но только не в доме девяносто шесть, а в доме шестьдесят девять. Вот какая получилась история. Ну а теперь рассказывай.
— Нечего рассказывать, — сказал Якоб. — Того, о чем вы думаете, вообще не существует. А на пляже я встречаюсь не с девушкой, а с маленьким мальчиком.
— С мальчиком в юбке, не так ли?
— Ну и мысли лезут тебе в голову! — сказал Якоб.
— Уж больно неубедительно ты говоришь, — неожиданно для Якоба вмешался в разговор рядовой Штриглер.
— А я никого и не собираюсь убеждать.
— Значит, маленький мальчик, говоришь?
— Конечно. Ему еще нет и десяти лет!
В этот момент ефрейтор Бергеман повернулся на койке, затем встал с нее и, застегивая воротничок френча, сказал:
— Чепуха это все, ребята! Просто-напросто он водит нас за нос! — И, повернувшись к Якобу, добавил: — Но так просто ты от нас не отделаешься, Якоб. Мы поверим тебе только тогда, когда сами во всем убедимся!
Лейтенант Тель несколько раз обошел вокруг письменного стола, стоявшего в кабинете. Задержался у окна, посмотрел на затянутое серыми тучами небо. Тучи висели низко, и лишь временами между ними появлялись просветы, сквозь которые пробивались солнечные лучи. Робко скользнув по казарменным крышам, они снова исчезали. В другой раз лейтенант, возможно, подумал бы: «Вот и солнышко! Значит, весна не за горами! Если такая погода продержится несколько дней, дивизионные учения не будут очень трудными».
Однако сейчас лейтенант думал не об этом. Настроение у него было отвратительное.
«У тебя плохое настроение? Тогда подумай, отчего оно плохое, и постарайся изменить его. Но изменить его невозможно, — вздохнул он. — Обе причины, которые так угнетают меня, находятся вне моей власти: Елена вовремя не вернулась из своей поездки, а Якоб Тесен больше не хочет ждать…
А впрочем, твоя идея, отец, была хороша, и звучала она весьма убедительно. Только успеха пока что, к сожалению, не видно. А рапорт унтер-офицера все еще лежит на моем письменном столе, прямо у меня под носом: «Я, унтер-офицер Якоб Тесен, прошу…» Да, слишком долго он лежит здесь! Его давно следовало бы передать комбату майору Брайтфельду или даже командиру полка. Твои наставления, отец, не могут помочь мне!»
— Было это весной сорок второго года в одном из лагерей для немецких военнопленных под Иваново, — начал свой рассказ отец. — С момента зимнего наступления Красной Армии прошло уже много времени, но в рядах антифашистов все еще царило приподнятое настроение. Оно и понятно: ведь под Москвой фашистам впервые был нанесен такой серьезный удар, что им пришлось удирать. В один из весенних дней я получил задание поехать в Иваново, неподалеку от которого размещался лагерь для военнопленных, чтобы провести среди них разъяснительную работу. «Дело нехитрое, — думал я, — особенно после такого военного успеха наших советских друзей!» Это был один из временных лагерей начального периода войны, предназначенный для размещения небольшой партии пленных. Позднее, когда количество военнопленных достигло нескольких сотен тысяч, лагеря стали более крупными. Во всяком случае помещение, в которое меня привели, оказалось простым бараком, по-видимому, прежде там было зернохранилище, а поскольку зерна для хранения в ту пору уже не было, оно пустовало. В бараке были крошечные окошки, заделанные вместо стекол деревянной дранкой. В некоторых окнах, правда, дранку уже вынули, так как погода становилась с каждым днем теплее. Весна в тех местах всегда начинается неожиданно и проходит быстро. На деревянных скамейках, на грубо сколоченных нарах и прямо на полу сидели пленные, мои земляки, На их лицах уже не было той растерянности, которую можно было видеть у них в первые дни плена. Теперь они уже знали, что с ними ничего плохого не сделают, что полоса невезения для них кончилась и теперь им уже ничего не грозит. Самое большее, что их может ожидать в стране, западные районы которой они разграбили и опустошили, это работа по восстановлению. Поэтому настроение у военнопленных снова поднялось. Угрызений совести или раскаяния они не чувствовали, вместо этого — только надменность, презрение и холодность. Они вновь как бы превратились в маленькую расу господ. Мною овладели сомнения: удастся ли мне повлиять на них, убедить в закономерности поражения фашистской армии под Москвой? В довершение всего, сынок, Красная Армия в тот момент вновь отошла по направлению к Дону. Однако, несмотря на все это, я начал говорить. Слова мои были встречены ледяным молчанием. Потом из рядов военнопленных под одобрительный гул голосов раздались выкрики: «Подлец! Предатель! Бездомный бродяга, тебя ждет сук и просмоленная веревка!..» «Черт побери, — подумал я, — и зачем только я согласился приехать сюда и беседовать с ними?! Они же неисправимы!» В тот момент мне хотелось удрать куда-нибудь, все равно куда: на фронт или к партизанам. Короче, я уже был готов отказаться от своей миссии, как вдруг прямо перед собой заметил бледного небритого молодого человека, сидевшего на полу. Он приставил левую руку к уху, словно боялся пропустить хоть одно мое слово. Глаза у него были широко раскрыты, и их взгляд выражал нечто похожее на заинтересованность. «Теперь я буду продолжать, хотя бы для него одного», — мысленно решил я. И выдержал до конца. Каждый раз, когда мне казалось, что слова мои звучат неубедительно, я смотрел на лицо молодого человека. Оно вселяло в меня уверенность…
Читать дальше