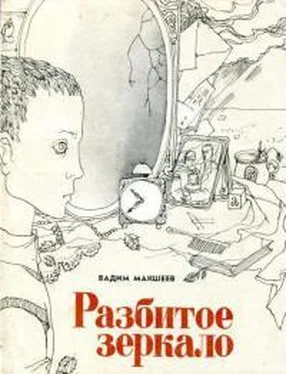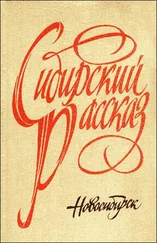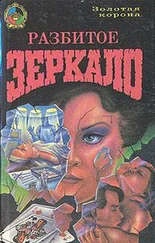Когда-то учился в чистеньких городках, где кудрявый занавес плюща скрывал следы чугунных ядер и щербины времени на каменной кладке старых стен, затем всю войну и еще долго после жил в бревенчатой сибирской деревушке. Вновь увидел город лишь спустя шестнадцать лет. Приехал тогда в Томск за вкладышами для косилок и еще какими-то запасными частями к нашим немудреным колхозным машинам. За прошедшие годы отвык от городской суеты и шума, терялся на улицах, у каждого киоска пил теплую газированную воду с сиропом, жевал измятые пирожки с ливером, последним взбирался на подножки звенящих колокольчиком тряских трамваев, боялся заблудиться, и все мои дороги начинались и кончались у речного вокзала. К вечеру четвертого дня сдал на товарную пристань ящик с полученными в «Дормаше» железяками и взмокший прибежал к причалу, откуда отправлялся пароход до Каргаска. Посадку еще не объявили, и толстая дежурная в обтягивающей голову черной беретке, загородив выход к дебаркадеру, не пропускала на сходни столпившихся пассажиров. За билетом я отстоял очередь с утра, ехать предстояло трое суток, да еще в Каргаске на пристани неизвестно сколько ждать попутную посудину по Васюгану, чтобы добраться уже до своей деревни. Билет у меня был третьего класса, хотелось сейчас примоститься ближе к машинному отделению, по пути в Томск две холодных ночи я провел на палубе — внизу места тогда не досталось. Стоявший у причала «Козьма Минин» басовито прогудел, и, хотя посадку все-таки не объявили, толстуха дежурная пропустила на дебаркадер несколько человек — знакомых, либо кого-то из начальства. Притиснутый к воротцам, я попытался было тоже пройти, но она цепко ухватила меня за плечо:
— Куда лезешь, колхозник!
Помню, больше всего меня тогда поразило, как она узнала, что я из деревни? Были на мне суконные галифе, вельветовая надевашка, новая светлая кепка. Правда, обут в кирзовые сапоги, но кирзу тогда носили и в городе. Потом уже сообразил — это она из-за мешка. Свой фанерный чемодан я не стал брать из дома в город, громоздкий он, с мешком ловчей, да и под голову можно положить вместо подушки. Приладил лямки, уложил харч на дорогу, а обратно покупки: полушалок жене (тогда уже был женатым), дочкам гостинца, буханку положил, пачку столового маргарина, сколько-то комкового сахара. Еще книжка там лежала, купил за десятку возле базара «Легенду о Тиле Уленшпигеле». Куль был самотканый, в нашем колхозе и после войны сами ткали на кроснах холст, а в военные годы обносившиеся бабы ходили в окрашенной своедельной бурой краской холщовой одежине.
В многолюдье городской толпы среди нарядных молодых людей нет-нет, да и вспомнятся мне сегодня портяные кофты, холщевина, черки из сыромятины. Приходит на память давнее — великое и тяжелое, когда бываю в Лагерном саду. Отсюда с кручи далеко видна томская земля — сливающийся с горизонтом лес за излучиной реки, поля, дороги… Торжественная и печальная плывет в неоглядный простор музыка. Тут, меж расступившихся деревьев на привезенном издалека граните, — монумент — Мать благословляет на ратный подвиг сына. Памятник солдатам Томска и томских деревень, памятник женщинам, которые делали оружие, одевали, обували, кормили в войну хлебом.
Здесь, у трепещущего на ветру Вечного огня, каждый думает о своем. Я думаю о мужиках и парнях из дальней васюганской деревеньки, зарытых под Ржевом, Великими Луками, Ленинградом… об их матерях, женах, сестрах, босиком пахавших и сплавлявших лес, сгибавшихся под кулями и вязанками пихты, исколотыми осотом ладонями связывавших все снопы на колхозных полях. О всех русских женщинах, ходивших в холщовом, недоедавших, недосыпавших, недолюбивших. Склоняю голову перед их великим подвигом, великими муками и великим трудом.
Не могу равнодушно слышать, как сегодня порой какой-нибудь сопляк-юнец орет другому: «Колхозник! Деревня!», вкладывая в это что-то насмешливо-обидное. Ведь если родители его не из деревни, то уж дед и бабка наверняка — более половины тех, что живут сегодня в городе, родом деревенские. И насмехается он над их памятью, над родной землей, над святым хлебом.
Сажусь по утрам за письменный стол, кажется — начну писать — пойдет легко, свободно, польется рассказ, словно прорвавшая запруду речушка, чем ближе к устью, тем прозрачней, светлей. И не будешь успевать записывать, поспевать за мыслью, за воспоминаниями, не дававшими уснуть ночью. Но мучаешься уже над первой фразой, напишешь, зачеркнешь, снова напишешь и бросаешь исчерканную страничку. Ищу гармонии мысли и слова, ищу и не в силах найти. Тяжел груз ответственности перед теми, кого нет, перед самим собой, перед теми, кто не пережил, но должен знать. Смогу ли, сумею ли рассказать все так, как было? Одно и то же видишь иначе в разное время. Зорче становишься с годами или наоборот? Снова спрашиваю себя — какого цвета мир? Таков, каким видишь в детстве, или такой, каким видится на склоне лет? Невозможно ответить на это, ибо меняешься сам. Знаю одно — с годами прошлое становится все более светлым.
Читать дальше