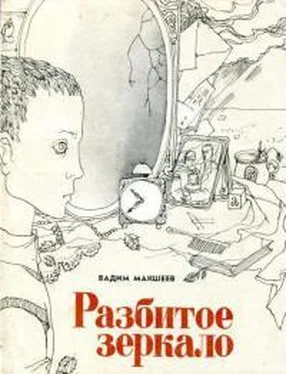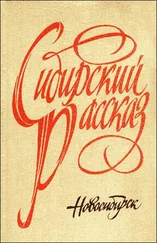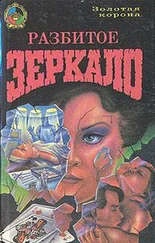Куски перегоревшего сланца, сорвавшись из-под моих ног, подпрыгивая, катятся по откосу. Прямиком, минуя тропу, спускаюсь с горы. Помнишь, как мальчишкой я поднимался к тебе на вершину? Как-то раз побежал обратно и не мог остановиться — ноги несли все быстрее, я упал и больно ободрал коленки. Там внизу был хутор, в той стороне — карьер, а вон там паровозик возил вагонетки со сланцем. Почему-то этот паровозик называли сусликом. Помнишь, там была дорожка, рядом обнесенные проволокой шурфы, и, когда я вечерами возвращался из школы, всегда боялся мимо них проходить. Помнишь? Я тогда был не таким, какой теперь. Ты должна все помнить — как потом тут расстреливали, как засыпали погибших. Я был тогда далеко, я знаю тебя только такой, какой ты была до войны — дымилась горячим коксом, казалась живой, ты вместе со мной росла, ты тоже была частью моего Кивиыльского детства. Как же могло так случиться? Почему?
Заливаются щебетом птицы, тянутся деревца, закрывая зеленью холодный кокс. Часть семян, наверное, принес ветер, но сосенки растут рядками, их кто-то посадил. Лишь в одном месте прогалина. Бурая прогалина, будто проступившая из-под земли кровь.
В последний раз уже с шоссе оборачиваюсь на гору. Проносятся машины, с треском промчался мотоцикл, обняв руками, прижалась сзади к мотоциклисту девчонка в яркой куртке. Молодые, счастливые, не обремененные грузом воспоминаний. Двое мальчишек со школьными портфелями остановились возле калитки крайнего дома:
— Ну, пока. Ты позвони. Впрочем, я сам тебе звякну.
— Пока. Слышь, он бабку обзывает, а она, дура, валидольчику под язык.
Высоко по склону взбираются двое с дельтапланами. Медленно, тяжело карабкаются на могильный курган, и снизу кажется, будто муравьи тащат на огромный муравейник мертвых бабочек.
Было детство. И была сказка про удалого стрельца и чудесного слугу его Шмат-разума. Кликнет, бывало, стрелец:
— Эй, Шмат-разум!
И в ответ голос:
— Что угодно?
— Покорми меня!
Являются люстры зажженные, стол накрытый, всякие яства и напитки… Попросил стрелец:
— Эй, Шмат-разум, доставь-ка меня за тридевять земель в тридесятое царство!
Тотчас подхватило удалого стрельца буйным вихрем, понесло по воздуху.
— Постой, брат Шмат-разум, шапка слетела!
— Эх, сударь, шапка твоя уже за пять тысяч верст позади…
Города и деревни, реки и леса мелькают внизу.
Летит стрелец над синим морем-океаном, кричит ему сквозь ветер невидимый верный слуга:
— Хочешь, на море золотую беседку сделаю? Хочешь отдохнуть, счастье себе добыть?
Согласился стрелец.
Помог ему Шмат-разум красавицу жену найти, на царство стать…
Любил я сказку — был бы у меня такой слуга Шмат-разум, попросил бы его уроки за меня делать, попросил бы, чтобы в кино бесплатно пускали, чтоб отец не болел. Звал иногда тихонечко, когда оставался один дома:
— Эй, Шмат-разум!
Не отвечал никто. Тикал на комоде круглый будильник, шептал за окном ветер…
Ушло детство.
И привиделось ночью сегодня:
— Эй, Шмат-разум!
— Что угодно?
Чего просить у него? Что самое, самое главное?
— Сделай так, чтобы никогда не было больше войны.
— Проси другое. Я тебе одному слуга, тебе одному…
— Верни мне детство, Шмат-разум!
Печален голос:
— Но опять тогда будут умирать твои отец и мать, опять будешь хоронить сестренку. Ты хочешь, чтобы все повторилось?
— Нет, Шмат-разум, нет…
— Чего же надобно тебе?
— Пусть счастливы будут дети и внуки мои. Скажи — будет ли счастье у них? Эй, Шмат-разум! Шмат-разум…
Нет мне ответа.
Светлые корпуса Академгородка, старинные купеческие дома с шатровыми башенками, массивные колонны первого сибирского университета, игла телевизионной башни над голубыми луковками куполов старообрядческой церквушки, новые микрорайоны, теснящие прилепившиеся на склонах насыпушки первых послевоенных лет. Стекло и бетон современных зданий, виньетки и арабески на фронтонах бревенчатых домов — дыхание нашего стремительного века, невнятные голоса прошлого.
Мой Томск — город, в котором живу вот уже больше двадцати лет. Временами он чем-то напоминает мне далекий город моего детства — Нарву. Проступающими ли из-под асфальта камнями мостовой на Кузнечном взвозе, крутым ли обрывом тенистого Лагерного сада или еще чем-то другим, неуловимым, как улетучившееся воспоминание, как забытый сон.
Любуюсь распахнувшимся за рекой Томском, когда по Шегарскому тракту выезжаю из соснового бора на пойменный простор к соединившему берега Томи мосту, любуюсь звездной россыпью мигающих городских огней, возвращаясь поздним вечером домой из села; радуюсь городу, но всякий раз, когда приезжаю в деревню, радуюсь ее полям, траве, лесу, радуюсь запаху свежей борозды, теплу истопленной березовыми поленьями русской печи.
Читать дальше