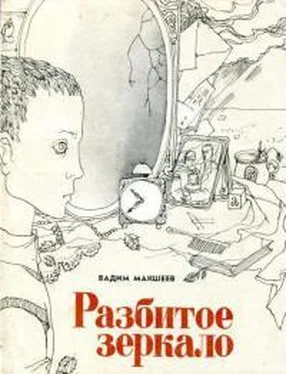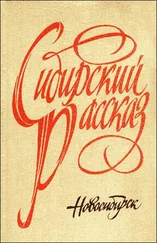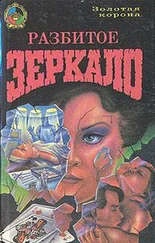И вот перрон, позади сорок лет, война, жизнь… Тот же серый кирпичный вокзал, та же прямая со сбегающимися вдалеке рельсами колея железной дороги, та же черная коксовая гора за сланцеперегонным комбинатом, только больше зелени и просторней, пустынней за переездом, где улица, на которой когда-то жил.
Пошел напрямик от вокзала и не нашел ее. Был сквозящий пустырь, тянулись асфальтовые дорожки к заводской ограде, стояли редкие деревья, желтели покрывшие землю одуванчики. Остановился на ветру, озираясь, искал хоть какие-нибудь приметы, по которым мог что-то узнать.
Ветер, редкие деревья, железнодорожная насыпь. Прежде за домами железной дороги не было видно, лишь доносился оттуда стук поездов, пахло паровозным дымом и еще наносило солдатским, махорочным, когда останавливались воинские эшелоны. Теперь насыпь, вокзал, завод, куда по утрам уходил на работу отец, — все стало как будто ближе, на виду, и черная коксовая гора за поселком кажется совсем рядом. Или сдвинулась, сжалась тут земля?
Редкие прохожие торопятся по своим делам. Остановил молодого холеного в прильнувших к лодыжкам джинсах: «Вы здешний?» — «Да, а что?» — «Где-то тут была Цветочная улица, Ыйе тянав… Я жил на ней до войны…» Молодой пожал плечами: «Не знаю, около завода все дома снесли». Спросил пожилую женщину с пестрой хозяйственной сумкой. «Ыйе? Нет, не знаю». Говорю: «Я жил тут до войны…» — «А-а», — и тоже равнодушно мимо. Еще у кого-то, и тоже — «Не знаю…» «Улица Ыйе?» — и опять — «Не знаю…»
«Люди, постойте! Люди! Меня увезли отсюда мальчишкой в сорок первом. Я тут жил, я тут жил до войны… Я вернулся через сорок лет!» Это я себе кричу, сам себе кричу. Спазм сжимает горло. Кажется, не цветы вокруг, а снежная пелена. Слепящая целина, и холодный ветер насквозь.
И вдруг увидел березу. Над толстым искривленным суком отец когда-то прибил скворечник, а внизу возле кучи песка, где летом играла сестренка, вкопал столбики для качелей. Чуть накренившаяся старая береза… Только не было тогда вокруг этих редких вытянувшихся деревьев, росли низенькие акации у калитки, нет скворечника. Да, это то место, тут проходила улица, тут была дорожка к крыльцу дома, на который в последний раз посмотрел тогда.
Пошей по траве, по цветам, прикоснулся к стволу, погладил холодную белую кору. Вот я и пришел, вот вернулся. Хорошо, что нет никого рядом, никто не видит моих слез. Лишь в конце пустыря, как изваяние, стоит какая-то женщина — ждет кого-то, а может, тоже пришла на улицу, которой нет. Шевелит ветер листву над травой, над примятыми одуванчиками. Мир праху твоему, детство… Летел, ехал за тысячи верст и вернулся на пустырь. Слишком долго ехал, поздно вернулся. Вот она боль, которой боялся. А может, лучше, что нет той улицы, нет дома, где, испуганно сжавшись комочком в углу, осталось детство. Может, увидел бы все, и стало еще больней.
Но он, тот пожелтевший от сланцевого дыма оштукатуренный домик, остался в памяти, как и другой, который тоже иногда вижу во сне, — та деревенская изба, где родились уже мои дети. Был когда-то молод, только что минула война, был еще впереди тот крытый посеревшим тесом домишко, были деревня, дочурки, бегущие навстречу, когда возвращался домой. Поднимешь их, обнявших тебя, несешь от калитки к крыльцу; в клочьях вечернего тумана Васюган, пахнет печным дымом, рекой, полем, что светлеет на бугре за поскотиной. И это в прошлом — деревня, те поросшие травой забвения васюганские поля. И радость, и боль, сбывшиеся и несбывшиеся надежды. Но снова теплой волной нахлынет нежность, сожмется сердце от любви, когда беру на руки уже свою маленькую внучку. Крепко держатся за меня горячие ручонки, будто опять обнимают маленькие дочери, сестренка, которой всегда шесть лет, будто обнимает меня мама. За каждой болью радость, за каждой радостью боль. Но всегда надежда. И так хочется жить…
Ни в Тарту, ни в Нарве я уже не застал никого из помнивших меня мальчишкой — кто погиб во время войны, кто умер, кто уехал или сгинул безвестно. Но знал: в Кивиыли — Лелька Федорович. Давным-давно мы жили на одной улице, учились в одной школе, вместе у железной дороги играли в лапту. Она сноровисто подавала под удар мячи, лихо била с подачи сама, бегала быстрее всех девчонок. Помню, однажды, перехватив взлетевший свечкой мяч, я оказался возле нее, со всех ног мчавшейся к «городу», и она, поняв, что уже не убежать и не увернуться, присела на корточки, закрылась руками. Может, я пожалел бы кого-нибудь из других девчонок, глазастенькую Таньку Иванову, например, свою первую любовь, Таньку, наверное, я лишь легонько бы запятнал, но Лелька, Лелька была для меня все равно, что мальчишка, и я со всей мочи всалил тогда ей мячиком между лопаток. Обернувшись, она посмотрела на меня снизу, и на глаза ее навернулись слезы. Лицо Лелькино забыл, помню — губы у нее были детские, пухлые, и еще почему-то запомнилась беретка. Темно-синяя фетровая беретка, какие носили тогда многие девчонки.
Читать дальше