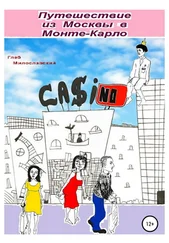— Тебе, наверное, интересно узнать, как вдруг дочка горничной стала графиней? — спросила Анна Ивановна.
Гостья кивнула, а потом, сообразив, что это не очень-то вежливо, произнесла:
— Будьте так любезны, расскажите, пожалуйста!
— Ну да, конечно, — усмехнулась старуха, — Радецкие-то не какие-то там Оливкины. Радецких все знают. Граф Федор Федорович — генерал от инфантерии, своим участием в турецкой войне прославил фамилию. Федор Федорович, кстати, — дед моего мужа.
Вся Россия следила за боевыми действиями на Балканах, где русская армия воевала с турками, освобождая Болгарию. Следила настолько внимательно, что скоро фраза из секретного послания генерала Радецкого царю — «на Шипке все спокойно» стала нарицательной. Художник Верещагин даже создал триптих, на котором изображен замерзший русский солдат. Солдат на Шипке замерзло немало, а генерал Радецкий остался жить, увековечив свое участие одной-единственной фразой. И если через тридцать лет гимназистам задавали на уроке вопрос: «А кто командовал русскими войсками на Балканах?», даже двоечник отвечал: «Великий Князь Николай Николаевич, генерал Скобелев и генерал Радецкий, который сказал…» Ну и так далее.
Анна Ивановна прославленному генералу никакой родней не была, если не считать, что вышла замуж за его внука. Причем, познакомилась с ним при обстоятельствах весьма трагических и для себя, и для него, и для всей страны.
Старуха показывала гостье семейные альбомы.
— Этот бравый поручик — мой муж, но тогда мы еще не были знакомы: в конце шестнадцатого года он приезжал в Петербург и сфотографировался, а это наше венчание в Румынии, это — моя свекровь, это князь Иван Александрович Барятинский, это я — в тридцатом году в Ницце, можете сравнить с оригиналом, сидящим перед Вами. Это опять муж, только еще в кадетском корпусе, он же — юнкер. А моих детских фотографий нет. Наверное, и не было никогда — мы очень бедно жили. Впрочем, может, это меня и спасло — нужда закаляет характер, дает шанс выжить, когда другие, может быть, тоже стойкие, но не знавшие бедности — не выдерживают. Ну, слушай продолжение моей истории. Больше года мы бродили по улицам, вечерами возвращались, с трудом передвигая ноги. Ближе к ночи к шарманщику приходили карманники и приносили дневную выручку — всю, без утайки, а он уж распределял, кому сколько дать, а сколько оставить себе и на нужды всей шайки. Был он человеком далеко не бедным, но ходил всегда в одной и той же шинели: похоже было, что подобная жизнь нравилась ему. Подручных своих он презирал и, как мне казалось, меня с братцем тоже. Часто некоторые из его приближенных оставались у нас переночевать и попьянствовать. Тогда приводили женщин, порой это были совсем девчонки — младше меня, ставили на граммофон пластинки и подпевали Шаляпину: «Эй, дубинушка, ухнем!». С той поры я эту песню слушать не могу и Шаляпина тоже. Мы с братом в своей комнатке пытаемся заснуть, а все равно страшно и обидно за свою судьбу. Дверь я, конечно, на запор закрывала, но что для вора запоры! Однажды ночью проснулась оттого, что кто-то дышит мне в лицо; хотела вскочить, а шарманщик меня за плечи держит. «Тихо, птичка, мальца разбудишь!» От него потом пахнет и водкой разит, но мне не то страшно, а то, что он в одном исподнем ко мне прокрался. Прижимается ко мне, и нательный крест его — большой оловянный в мою грудь больно колет. «Люба ты мне, — шепчет, — давай вместе как муж с женой жить! Ты у меня королевной будешь, в шелках и в бархате щеголять будешь; я дом каменный куплю, прислугу наймем, а ты им всем по щекам, по щекам…» Шепчет он, а сам сорочку мне задирает и ноги начинает мои целовать. «Скоро, соловушка, весь мир перевернется и мы с тобой на самом верху окажемся!» У меня от страха голос пропал, дрожь бьет, не могу даже слова сказать, чтобы отстал он от меня, но все равно по стене рукой шарю, где у меня над изголовьем лампа керосиновая висела; нащупала, сняла и ударила его со всего размаха. Шарманщик на пол повалился, я к дверям босяком по осколкам стекла, но он меня снова хватает, щека его разрезана, кровь хлещет. «Такая ты мне еще больше мила: такие не предают мужей!» И хохочет уже во весь голос. Я его снова лампой по голове и ну вон из дому, как была в одной сорочке — через дорогу к кондукторше. В окно ее колотила, кондукторша бессонницей мучалась и вовремя открыла: успела я заскочить в чужой дом перед самым носом негодяя.
— Утром пойдем к квартальному, — сказала соседка, — пусть его на каторгу упекут. Заживете с братиком как люди, а мы всей улицей вам помогать станем.
Читать дальше


![Лесли Чартерис - Пикник на Тенерифе [Пикник на Тенерифе. Король нищих. Святой в Голливуде. Бешеные деньги. Шантаж. Земля обетованная. Принцип Монте-Карло]](/books/87044/lesli-charteris-piknik-na-tenerife-piknik-na-tenerife-korol-nishhih-svyatoj-v-gollivude-thumb.webp)





![Галина Куликова - Не ждите меня в Монте-Карло [litres с оптимизированной обложкой]](/books/432970/galina-kulikova-ne-zhdite-menya-v-monte-thumb.webp)