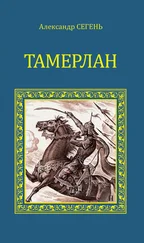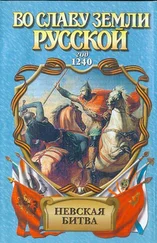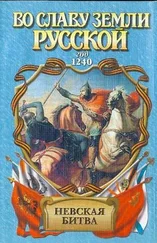На том и закончилась та встреча-короткометражка. Возвращаясь домой, Эол Федорович снова утопал в горестных размышлениях, ведь действительно были когда-то Элем и Эол, Климов и Незримов, почти ровесники, оба с берегов Волги, а где они теперь? Вспомнилось, как в начале девяностых вся сволочь, быстро разбогатевшая на разграблении страны, устроила так называемую встречу кинематографистов с представителями делового мира, и Элем тогда сформулировал главную мысль: раньше мы не могли снимать по идеологическим соображениям, а теперь — по финансовым, вот и вся разница между социализмом и капитализмом.
— А что бы хотел снимать режиссер Климов? — спросил тогда один из миллионеров.
— Ну, допустим, «Мастера и Маргариту», — отозвался Элем Германович. — Или «Бесов» по Достоевскому.
— Я дам вам денег! — сыто усмехнулся буржуй. — Легко.
— Вы, может быть, и дадите, а вот возьму ли я... — спокойно ответил Климов. — Сначала мне хотелось бы узнать, откуда эти деньги.
И ничего он не получил, и ничего не снял больше, и с первых секретарей правления Союза кинематографистов слетел, уступив место Андрею Смирнову, который, кстати, тоже после «Белорусского вокзала», «Осени» и «Верой и правдой» вообще уже двадцать лет ничего не снимает, только актерствует, вот как раз Бунина-то и сыграл в «Дневнике его жены». А Элем с Эолом все реже созваниваются, а встречались бог весть когда. Надо бы навестить старого друга или в гости позвать.
— Ну вот, моя родная, теперь я стал народным арфистом России. Жаль, что на медальке не лира, а лаврушка. Слушай, а поедем к Элему это дело отмечать?
— Сначала надо уточнить: а он-то получил лаврушку?
— Еще как получил, еще лет пять назад.
— Тогда поехали, а то бы он обижался.
Когда-то они не раз бывали в доме на Комсомольском проспекте, Лариса обожала гостей, шумные компании. Не так многолюдно, как в стародавние времена на Большом Каретном, но тоже, как любила выражаться хохлушка Шепитько, «де багацько грому, грому, де гопцюют все дивкы, де гуляють парубкы». Теперь просторная квартира напомнила Незримовым ухоженную усыпальницу, а хозяин-вдовец — мертвеца. Он встретил их один, поскольку взрослый сын Антон, славный мальчишка, находился где-то в отъезде.
— Рад вас видеть, — произнес Элем загробным голосом. И весь он был иссохший, как осенний лист, не сентябрьский и не октябрьский, а последний, ноябрьский, еще животрепещущий, но уже неживой.
Они прошли из прихожей в квартиру, и здесь их встречало множество Ларис, улыбающихся или строгих, веселых или грустных, простых или надменных, редкостно красивых или поблекших от усталости, с Антошей или с Элемом, с берлинским Золотым медведем или с кинокамерой. Эол подумал: если бы погибла Арфа, смог бы он жить среди нее в размноженном, но неживом виде? Смог ли бы вообще он без нее?
А Марта Валерьевна смотрела на них, Эола и Элема, и видела, что Эол, который старше на три года, выглядит не стариком, а вполне моложавым семидесятилетним мужчиной, в то время как Элем в свои шестьдесят семь производит впечатление девяностолетнего. Но хуже оказалось то, что говорил Климов:
— Все это ерунда, Эол. Наше искусство не нужно никому. Мы думаем, что заставим человечество больше не воевать, не морить людей в блокадном Ленинграде, не сжигать Хатыни. А человечество нас не слышит. Погладит по головке: молодцы, миротворцы, — и снова, как там у Заболоцкого: «Как безумные мельницы, машут войны крылами вокруг». Я бы швырнул обратно все свои фильмы и все фильмы Ларисы в придачу, лишь бы она была жива и мы были бы вместе. Пусть бы работали где-то в колхозе или совхозе. И пропади оно пропадом, это кино! Я возненавидел его. Я не то что снимать, я пересматривать не могу, до того тошно!
— А Лариса?
— Что Лариса?
— Она бы согласилась швырнуть?
— Она бы нет.
— Вот видишь. Все всегда знали, что человечество не переделаешь. Что, Шекспир не знал? Гомер не знал? Росселлини? Шолохов? Герасимов? Знали. И все равно долбили, долбили свое.
— А я не хочу больше, — всаживая в себя очередную стопку водки, будто яд, рычал Элем. — Мне начхать на человечество. Пусть оно истребит самоё себя. И на искусство мне давно уже...
— Слушай, Элем, — встряла Марта, желая сменить тему. — Я тут слышала байку, будто твое имя вовсе не Энгельс–Ленин–Маркс, а якобы твоя мама, когда встретилась с папой, учила французский и говорила: «Elle aime Klimov» — «Она любит Климова», и так получился Элем Климов.
— А брат мой вообще говорит, что у них был любимый джек-лондонский персонаж Элэм Харниш, — усмехнулся Климов.
Читать дальше