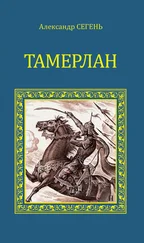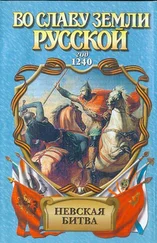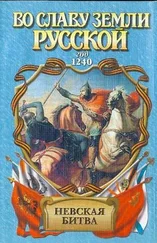— Не-е-егр, — простонала вобла. — Я так ждал тебя! — Тарковский сделал пальцами отталкивающий жест.
Все поняли и вышли, оставив двух режиссеров наедине друг с другом. Эол Федорович, неожиданно для самого себя, приблизился и поцеловал Андрея Арсеньевича в темя, от которого даже пахло пересушенной воблой.
— Чего это ты? — удивился Тарковский. — Ведь мы с тобой терпеть не можем друг друга.
— Не любим, это точно, — усмехнулся Незримов. — Я не люблю твои фильмы. За то, что они слишком много вызывают чувств, раздражают. Взбалтывают.
— Взбалтывают? — Рот воблы предпринял попытку улыбнуться. — Это ты хорошо сказал. В тебе я люблю твою честность.
— А я люблю в тебе то, что ты всерьез считаешь себя гением, — обменялся любезностями Незримов, и взор его упал на какой-то страшный черный кувшин, по которому пробежали четыре полосы, будто кто-то скребанул по нему когтями.
— Я и есть единственный. Гений. Во всем кино, — произнесла вобла и простонала: — Не ты же!
— Куда мне, — усмехнулся Эол и подумал: как страшно, этому парню всего лишь пятьдесят четыре года, и он выглядит умирающим восьмидесятилетним старикашкой, а ему вчера исполнилось пятьдесят шесть, и он вполне может сыграть тридцатилетнего, а чувствует себя и вовсе юнцом. И он полон сил и здоровья, а этот несчастный и одинокейший в мире человек со дня на день умрет и уже никогда не будет сердиться на съемочных площадках своим противным капризным голосишком, сильно раздражавшим Эола в те несколько дней, когда он помогал Андрею снимать «Ностальгию» в долине Валь-д’Орча. Как жалко! Как мучительно жалко, что он умирает!
Вобла стала внимательно всматриваться в потомка богов, будто желая удостовериться, именно ли это Незримов. Удостоверилась и спросила:
— Что снимаешь?
Незримов коротко рассказал о своем новом проекте, на что Тарковский поморщился:
— Плюнь на это. Не снимай. О тех испанцах я уже... Снял... В «Зеркале». Лучше все равно не снимешь.
— Еще чего! — возмутился потомок богов. — У тебя там несколько эпизодиков. Случайно привязанных.
— А, — махнула своим сухим плавником вобла, мол, чего бы ты понимал.
— А помнишь, как мы с тобой «Ариэля» не поделили? — рассмеялся Незримов. — Чуть морды не набили друг другу. А в итоге ни тот ни другой не снял.
— Дураки, — вздохнула вобла и перевела разговор: — Как там в России?
— Вакханалия вседозволенности, — ответил Незримов. — Откуда-то повылезала всякая нечисть, прямо по Пушкину: «Бесконечны, безобразны, в мутной месяца игре закружились бесы разны...»
— «Будто листья в ноябре», — вновь попыталась улыбнуться вобла.
— Зато твои фильмы выскочили будто зайцы из лодки, когда дед Мазай к берегу подплыл. — Живой и здоровый захотел сделать умирающему приятное. — Во всех кинотеатрах крутят, народ валом валит. Все потому, что ты считаешься диссидентом.
— Я не диссидент, — вздохнула вобла и простонала, как порыв в дымоходе: — Я ру-у-уский. И не эмигрант. Я везде в России. Послушай меня, Ёлкин. Наклонись. Это очень важно. И совершенно секретно.
Незримову сразу же вспомнился Адамантов: вот оно, тайная информашка! Он приблизился и чуть не задохнулся от запаха пересушенной рыбы, а Тарковский застонал, именно как стонала бы пересушенная рыба:
— Слушай меня внимательно, что скажу. Смерти нет. Есть только Россия. Везде. И когда мы умираем, мы снова... оказываемся в ней. Понял меня?
— Понял, — ответил Незримов. — И полностью с тобой согласен.
— Это хорошо, — облегченно выдохнул Тарковский, как человек, успевший выполнить важное задание. — Что там еще?
— Вчера созванивался со своим оператором Касаткиным, он сказал, что только что сняли Ермаша, вместо него назначили дурака Камшалова.
— Ермаш-барабаш! — удивился умирающий. — Жалко Тимофеича. Переживает. Хороший мужик. Ты знаешь, сколько он мне помогал! Непонятно почему. И за границу... Не хотел... Отпускать... Чтобы я рядом... Был... Докладную подал... В ЦК... И очень точно обо мне... Выразился... Что я сосредоточился... На эгоцентрическом понимании... Нравственного долга художника... Точнее не скажешь. Я никого не боюсь. Даже смерти. И ты не бойся, негр. Я вообще-то люблю тебя. Ты в кино третий. После меня и Бриссона. Но и Бриссон не гений. И ты. Только я. Только я. Всё, я поплыл! О-о-о-о-о! — Боль, которую он все эти минуты героически сдерживал, прорвала оборону.
Чуткая Лариса прибежала:
— Андрей, вам укол? — Она почему-то всю жизнь называла его на «вы».
— Ы-ы-ы-ы! — закивал бедняга.
Читать дальше