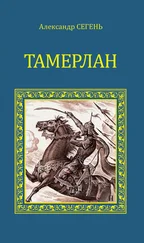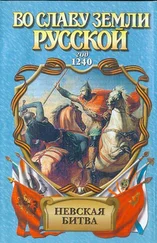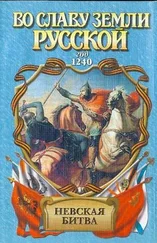Накануне Адамантов попросил о встрече и в холле гостиницы «Москва» напрямую заявил:
— Хотелось бы, чтобы там не получилось дружного хора восторгов, понимаете?
— Понимаю, Роман Олегович, но позвольте мне высказать завтра то, что я действительно буду думать о фильме Андрея. Ладно?
— Ладно. Но полагаю, вы не будете в восторге.
Вытерпев три часа, Незримов с нетерпением ждал, что скажут. В основном все хвалили, особенно делегаты от Большого Каретного. Первым, сколь это ни странно, нарушил общий строй Солженицын:
— Я увидел какое-то во всем бессердечие. Какая-то сплошная череда уродливых жестокостей. Причем бессмысленных, неоправданных.
— Время было жестокое, Александр Исаевич, — возразил Тарковский.
— Не надо все списывать на время. А когда оно не было жестоким, скажите мне! И всегда люди жили, бывали счастливы, любили, взывали к любви и свету.
Следующим обвинителем выступил художник Илья Глазунов:
— Я не увидел Андрея Рублева. Какой-то неврастеник. Мечущийся. А как показана Россия? Дожди, грязь, серость и сырость. Я сомневаюсь, любит ли режиссер свою Родину.
— Любит, не сомневайтесь! — выкрикнул актер Бурляев, снова снявшийся у Тарковского в одной из главных ролей.
— Подтверждаю, любит, — сердито хмыкнул сам Тарковский.
Историк и реставратор Савва Ямщиков хотя и был на стороне Андрея, тоже высказал замечания по поводу несоблюдения правды истории:
— Ну какие могут быть «интересно», «секрет», «материал»? Таких слов тогда не знали.
— А нужна ли нам музейная правда? — парировал Тарковский. — Я хотел приблизить своих героев к зрителю, а не отдалить их. Есть правда искусства, она не подвластна правде истории.
— И все же. Вот у вас хан Едигей говорит с русским князем по-русски, а должно быть наоборот. Ведь Едигей, по сути, его господин.
— Это верно, но не хотелось загромождать монгольской речью и закадровым переводом.
Жестче многих высказалась Кира Муратова, она училась у Герасимова и Макаровой сразу после Незримова, в третьей мастерской:
— Как можно было жечь в кадре корову, убивать лошадь? Объясните, Андрей!
— Корова была покрыта асбестом, — хмуро ответил Тарковский. — А лошадь... Да, она погибает в кадре. Но эту лошадь мы взяли со скотобойни. Ее так и так должны были забить.
— Что?! Да после таких слов я знать не хочу этого человека! — вспыхнула Муратова и гневно выбежала из просмотрового зала.
Наконец дошла очередь и до Незримова.
— Платон мне друг, но истина дороже, — произнес он.
— Особенно если учесть, что у тебя сын Платон, — больно уколол разозленный Тарковский. — Давай, негр, вали меня дальше.
— То, что лошадь взяли со скотобойни, не аргумент, — продолжал Эол. — Этак в следующем фильме ты возьмешь из тюрьмы приговоренного к смертной казни и снимешь, как его уконтрапупят. Все равно же ему со дня на день крышка.
В зале прокатился смешок. Незримов продолжал:
— Мне не понравилась вообще стилистика фильма. Она мучительная. Искусство нередко питается человеческим горем. Но здесь, на мой взгляд, оно не просто питается им, а пожирает его с наслаждением. Самая ужасающая сцена — это когда этого, которого Юрий Никулин играет... Зачем его так старательно заматывают в белые ткани, оставляют рот и туда наливают кипящую смолу? Казнь бессмысленная и вся направлена лишь на эстетику страшных страданий. Шокировать зрителя. Или когда глаза выкалывают. Да многое, что заставляет содрогнуться. Хуже, чем у Достоевского сон Раскольникова, как убивают клячу. Я бы эту сцену убрал из «Преступления и наказания». И сцены неоправданной жестокости из фильма этого я бы тоже убрал. Не должно искусство упиваться человеческим горем. Не должно. Процесса создания Рублевым его шедевров в картине нет, зато в преизбытке всякого... — Незримов ненадолго умолк, думая о том, что добровольно исполняет указание Адамантова, и осекся. — Но есть и многое, что очень хорошо. Когда Андрей Рублев говорит, что в страхе живем потому, что либо любви нет, либо она такая, что не любовь, а блуд. И Купаловская ночь больше похожа не на ликование плоти, а на мрачные языческие похороны. И когда колокол раскачивают под звучание итальянской речи и вдруг он ударяет, звенит. Звенит всепобеждающе. В целом-то фильм хороший. Если бы не жестокость.
Из «Мосфильма» высыпались на свежий декабрьский воздух.
— Какой-то душный фильм, — сказала Арфа. — Когда я смотрю на древнерусские храмы, мне кажется, их создавали летучие люди. А в фильме Тарковского люди ползучие. Хоть и начинается с полета на воздушном шаре. Ты так здорово выступил, что я снова еще больше в тебя влюбилась. Такие точные слова нашел. Что искусство питается горем. А оно не должно.
Читать дальше