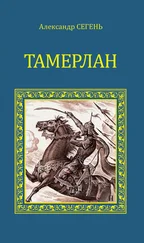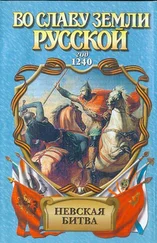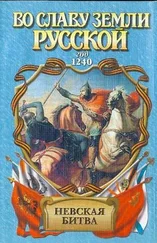— Да? Какое же? Без меня, что ли?
— При чем тут без тебя? С тобой. Если ты захочешь писать другие сценарии.
— Ну-ну?
— Понимаешь, Саня, я вдруг осознал одну очень страшную вещь. Искусство на протяжении тысячелетий только и делает, что питается человеческими страданиями, болью, смертью. Возьми живопись: половина картин, на которых кого-то убивают, режут, истязают, женщины заламывают руки и рыдают, оплакивая мужчин и детей, всякие там Андромахи, Гекубы, Ниобеи, кто там еще? Истязают христианских мучеников, всяких святых Себастьянов и апостолов. Христа распинают, и Он мучается на кресте. Я даже кровь не хочу больше показывать на экране.
— Кодекс Хейса?
— Почему бы и нет? Я понял, что, изображая страдания и смерть, мы не противостоим им, а лишь умножаем страдания и смерть. Зритель либо мучается, сопереживая, если он человек с сердцем, либо злорадствует, мол, не меня режут, а кого-то там, если этот зритель подлец. Своим искусством мы не предохраняем человечество от беды, а, наоборот, призываем беду, накликаем ее.
— Густые у тебя мысли, — задумчиво ответил Ньегес.
— Ты понимаешь меня, Саша?
— Начинаю понимать. Могу возразить, но не хочу. Боюсь, в твоих словах есть истина.
— Спасибо, друг. Мне кажется, в искусстве заложена магическая сила, которую мы не до конца осознаём. Не случайно многие актеры с суеверием относятся, когда их заставляют изображать мертвецов, особенно в гробу. Я прочитал «Бесов» Достоевского. А ведь бесовская книга.
— О как!
— Не смейся. Читаешь, и как будто по тебе бесенята ползают. Экранизировать ее — и они через экран выльются в мир, понесут повсюду новую кровавую эпидемию.
— Это уж ты хватил!
— Ничего подобного! Помнишь, мы снимали Творожкова? Смешной паренек Гена Баритонов разбился и лежал в той же позе, как в нашем фильме. Милая девочка Жанна Степнякова, тоже погибшая в нашем фильме, и в жизни потом погибла. А недавно попал под поезд Лева Карпов, которого у нас на Бородинском поле в клочья разнесло снарядом.
— Да ты что! — воскликнул Ньегес. — Этот бравый красавец! Пьяный?
— Пьяных Бог хранит. Трезвый. Опаздывал на электричку. Ты видишь страшную череду смертей?
— Постой... Дай прикинуть. Шатов! Он у нас доктора играл и потом летчика, ни тот ни другой не погибали, а Шатов уже в могиле. Тут твоя теория дает сбой.
— Понимаешь...
— Постой! Вероника вообще взорвалась. В фильме. Однако почему-то жива и здорова.
— Сплюнь и постучи. Не желал бы я ей... Даже после всего, что она в Ленинграде устраивала. Короче, возвращаюсь к тому, с чего начал. Данелия снимает без крови и ужасов, и фильмы один другого лучше. Рязанов снял жизнеутверждающую «Гусарскую балладу», а мы «Бородинский хлеб» страшный. Гайдай несет лучистую радость и веселье. А мы с тобой угнетаем зрителя. Не хочу больше. Давай снимать кино легкое, светлое, жизненное. В конце концов, я Эол, бог ветра, а снимаю нечто такое, будто я бог... не знаю чего... Свинцовых туч. Кровавых жертвоприношений.
— Так чего, бог ветра, «Голод» не будем дальше снимать?
— Эх, Саня, я бы с удовольствием. Но неловко как-то. Ладно уж, доснимем, а там... Свобода!
Без свинцовых туч и кровавых жертвоприношений тот Платошин день рождения не обошелся. Тучи медленно нависали, надвигались, хотя веселые птички и бабочки, казалось, продолжают порхать. Позавтракав, отец и сын уселись резаться в футболянку. Настольная игра довольно примитивная, но обоих охватил какой-то счастливый азарт, они орали, забивая шарик, искренне огорчались, пропустив гол, так не честно, требую переигровки, честно, еще как честно, да нет же, этот гол не засчитывается, а я говорю, засчитывается. Эол понимал, что, возможно, это их последние счастливые мгновения, понимал, что вдруг любит сына, как никогда не любил раньше, и пусть он лопает докторскую сколько влезет, это уже не станет так раздражать. Но он столь же четко осознавал, что никакого пути назад нет, прости, Ника, я совершил чудовищную ошибку и хочу остаться с тобой и сыном навсегда, найди в себе силы простить меня... нет, это невозможно, прежний мир навсегда разрушен, а главное, он не сможет жить без чарующего голоса, без тепла и любви той девочки, ставшей такой родной и необходимой, как небо и воздух, вода и земля. И оставалось только тянуть и тянуть последние мгновения этой глупой футболянки, склонившись над бутафорским полем, едва не прикасаясь головой к Платошиной голове. Ему хотелось обнять сына, прижать к себе крепко-крепко, зарыдать, заорать, что он забирает его с собой и не оставит на растерзание брошенной женщине, которая его заглодает тем, какая сволочь его отец.
Читать дальше