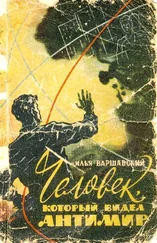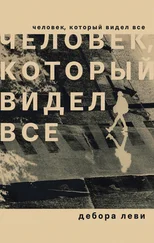Луна стряхнула со странных туфелек с крупными твердыми мысками пыль, крепко обвязала ленты вокруг щиколоток и начала танцевать. И следующий час, проведенный мной в ГДР на исходе двадцатого столетия, был всецело посвящен искусству, зародившемуся в семнадцатом веке и использовавшемуся европейскими монархами, чтобы продемонстрировать силу и мощь их держав. Двигалась Луна довольно сдержанно, но во взмахах ее рук чувствовалась тоска и нежность. Она вспархивала на носки и кружилась на месте – делала два, три, шесть оборотов… Позже она рассказала мне, что этому особому искусству ее обучила русская преподавательница, некогда готовившая танцоров Большого театра. В завершение танца ее тоненькая эфемерная фигурка неспешно изогнулась и замерла в идеальном арабеске en pointe.
Окончив танец, Луна, пытаясь отдышаться, растянулась на полу. Я принес ей стакан воды и, опустившись на колени, развязал шелковые ленты ее балетных туфель. «Если бы я хоть немного умел танцевать, – сказал он, – мы могли бы попробовать изобразить pas de deux, что в переводе означает «танец для двоих». С партнером, способным поднимать ее в воздух и помогать сохранить равновесие, она могла бы показать куда больше. Солнце село. Я запер входную дверь и начал отключать электроприборы, а Луна тем временем, все еще тяжело дыша, стала рассказывать мне все, что знала о «Битлз» со слов Райнера. Особенно нравилась ей история о том, как Джон и Пол автостопом приехали в Париж и там попросили знакомого парикмахера по имени Юрген подстричь им волосы. А впоследствии эта прическа стала их фирменным стилем.
Я пошел задернуть шторы и увидел из окна три железных балки, в отдалении торчавших из земли. Возможно, они там остались еще с войны. Восточной Германии не доставалось тех денег, что Америка тратила на восстановление Западной части. Луна все так же сидела на полу и, взявшись рукой за босую пятку, крутила ступней то вправо, то влево. Небо над балками затягивалось тучами.
Меня разбудил странный звук, доносившийся с улицы. То ли собака где-то выла, то ли лисица подзывала своих детенышей. Спал я на разложенном на полу матрасе и сейчас, подскочив на нем, увидел, что надо мной кто-то стоит. Привидение, призрак в белоснежных одеждах с серебрящимися в темноте волосами. «Извини, что напугала», – сказала Луна. Просто ей показалось, что ягуар уже здесь, вот-вот высадит окно и разорвет нас. Он набросится на нее, и она никогда больше не увидит ни своих балетных туфелек, ни любимой пластинки «Эбби-Роуд», ни матери, ни брата, которые ее исчезновения просто не переживут. Они даже не будут знать, что с ней случилось. А расспрашивать не решатся. Я предложил ей зажечь лампу и проверить, закрыты ли окна, но она сомневалась, что это отпугнет ягуара. Скорее даже наоборот – вдруг он прибежит на свет? Она опустилась на мой матрас и легла на бок, на расстоянии от меня. Собака на улице все выла, а может, просто скулила. Луну била дрожь. Я положил руку ей на талию – очень целомудренно, не придвигаясь ближе. Но ночью все переменилось. Каким-то образом во сне мы оказались ближе друг к другу, и, проснувшись, я обнаружил, что ноги наши сплелись, а пальцы Луны скользят по моему предплечью. Потом она взяла мою руку и положила себе на грудь. Я отпрянул, но тут она повернулась ко мне лицом. Я должен был оттолкнуть ее, но не сделал этого, и через пару минут ее белая ночная рубашка уже полетела на пол. Теперь уже ничто не могло нас остановить. Луна была на взводе, и все совершалось очень просто и естественно. Мы двигались будто бы в замедленной съемке, и казалось, все происходит само собой, помимо нашей воли. Луна прижималась ко мне всем телом и губами ловила нитку жемчуга у меня на шее. Глаза ее блестели в темноте. А потом все закончилось. За домом по-прежнему выла собака.
– Это Дженнифер тебе подарила?
Только тут я понял, что прикрыл шею руками, будто бы хотел защитить от нее свое ожерелье. На душе отчего-то было невероятно грустно.
Подумалось, что, как бы я ни ответил на вопрос о жемчуге, это спровоцирует разговор, которому не будет конца.
– Вальтер сказал мне, что твоя мать была еврейкой родом из Гейдельберга. И что ее отец был профессором в университете.
– Мне сейчас не хочется об этом говорить.
– Но ты должен, – уверенно возразила она. – Это же часть твоей истории.
Я закрыл глаза и притворился спящим.
Скорее всего, ожерелье отдала маме ее собственная мать, когда стало ясно, что детей, возможно, удастся вывезти из Германии. Иначе откуда бы у восьмилетней девочки, прибывшей в Британию с единственным чемоданчиком, была на шее нитка жемчуга? Когда мать умерла, отец отдал ожерелье мне, своему сыну, потому что дочерей у него не было. Разумеется, он и помыслить не мог, что я стану его носить. Жемчуг полагалось хранить в ящике комода, в бархатной коробочке. Я же надел его на шею, и каждое утро, пока отец и Мэтт поглощали хлопья, жемчужины шептали мне что-то по-немецки.
Читать дальше
![Дебора Леви Человек, который видел все [litres] обложка книги](/books/433335/debora-levi-chelovek-kotoryj-videl-vse-litres-cover.webp)