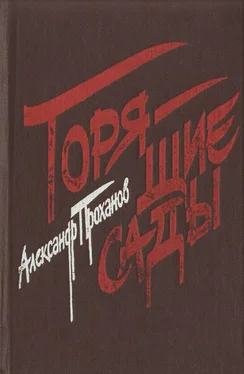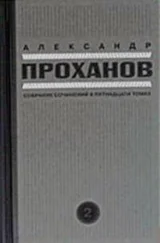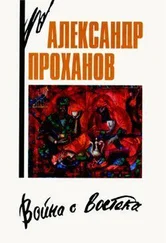— Да не о том я совсем, родные мои! — пробивался к своему Нил Тимофеевич, и все опять умолкли, обернулись к нему. — Где ищем? Где роем? Ну корма, ну дороги! Ну еще тракторов сто тысяч! Антарктиду освоили. Космос! Все нужно, все спешно, все ждать не велит! Но ведь это, если так разобраться, — подготовка, все мы к чему*то готовимся, к чему*то самому главному. А главное в том, как нам жить! Что у нас в душах, какая совесть, любовь. Разве нет? Разве не то говорю? Вот о чем должны думать. Об этом нам нельзя забывать, родные мои!
Полный, тяжелый в груди, умудренный хозяйственник вдруг открылся в иной, неожиданной страсти, в непривычном звучании слов, стараясь объяснить свое понимание жизни. И они, его друзья и товарищи, понимали его. Кивали, соглашались во всем.
— Песню, давайте песню споем, Григорий Тарасович, давайте вы свою, казачью! А мы легонько подтянем.
Григорий Тарасович медленно выправил плечи, как мельник, донесший и сбросивший тяжкий седой куль. Выгнул могучую грудь, дав в ней место большому дыханию. Стал прямее и тверже в спине, словно всадник. Повел головой, отодвигая седым жестким чубом и этот гостиничный номер, и Кабул с комендантским часом, и близкие на утро заботы, а открылась степь в зеленом ветряном блеске, и казацкое войско шло по степи, топтало изломанными, избитыми о другие земли копытами, волновалось пыльным оружием, бунчуками, знаменами, выцветшими на солнце глазами. И кто*то высоким негромким голосом в своей чистоте и печали запел:
Соловей кукушечку уговаривал…
И тихо, страстно колыхнулось в ответ, обнимая певца:
Полетим, кукушка, во зеленый сад..
Волков закрыл глаза. В обморочной, сладчайшей боли пал в эту знакомую с юности песню, как падают в тихую воду, в прохладную траву, — в то высокое, вне времени и пространства, чувство, бывшее и любовью, и братством, и болью о бренном пребывании здесь, на этой любимой земле, от которой с каждым днем, с каждым часом, неуклонно тебя отнимают, и ты не успел насладиться, не успел налюбоваться, понять, как жить в этом мире, а уж время из него уходить. И весь век на губах вкус незнакомых ягод и столько потерь и забвений, и никто не научит, как жить, не научит, как умирать.
Спели песню, и миг тишины. И снова Кабул и номер. Умиленные, умягченные лица.
— Ой, хорошо! Ой, складно! До чего же складно спели!
— Вот где все оказались. В песне все оказались!
— Еще, Григорий Тарасович, давай еще запевай!
Пели еще и еще. Волков то подпевал, то молча слушал, чувствуя, как что*то в нем бесшумно осыпалось и рушилось, словно штукатурка с аляповатой масляной живописью, и под ней, поблекшая, наполовину исчезнувшая, открывалась забытая фреска, та, что писана травяными, цветочными соками, тихими разноцветными землями. «Это я, неужели? Так было? Неужели было со мной?»
Шли по длинному, устланному красным ковром коридору, туда, где светилось пространство холла и часовой с автоматом курил, следил за их приближением. И, зная, что сейчас предстоит им расстаться, и боясь, не желая этого, и боясь, что его нежелание есть грешная невольная мысль, он сказал:
— Ну, вот, и кончился вечер. Отдыхайте. Спокойной вам ночи.
— Спасибо за вечер. Вы завтра улетаете?
— В Джелалабад на неделю.
— Я буду думать о вас. Буду желать вам удачи. Буду ждать встречи.
— Знаете, где встретимся? В сквере за отелем растет большая чинара. А под ней ковер и два мудреца. Пейте с ними чай и меня поджидайте. Прилечу — и сразу туда.
— Хорошо, — сказала она. — Спокойной ночи.
И ушла. А он медленно вернулся в свой номер, все еще видя ее, идущую по красной дорожке, исчезающую в темноте коридора.
Его опять окатила бесшумная, из света, волна. Их высокое в солнце зеркало. Морозный ясень в окне, тот самый, на который потом в день смерти бабушки прилетят снегири. Звонок в прихожей. Бабушка легким скоком бежит открывать. Два ее брата, охая, похохатывая, пререкаясь, вносят в комнату запах мороза, булок, здоровья. А он, сидящий за уроками, рад их появлению. То и дело отвлекаясь от книг, от хрустальной чернильницы, от зеленого, уляпанного кляксами сукна на старинном столе, вертится, прислушивается к их рокотам, несогласиям, спорам, и бабушка, сердясь не на шутку восклицает: «Вот уж вы, умачи!» Через много лет бабушка, неживая, лежала все на том же столе, на пятнистом зеленом сукне, и в окошке стоял все тот же разросшийся ясень с метелками легких семян, и на голые ветки уселись два снегиря, скакали, осыпали снег. И он подумал: два ее брата, умершие за год до нее, прилетели к ней на поминки.
Читать дальше