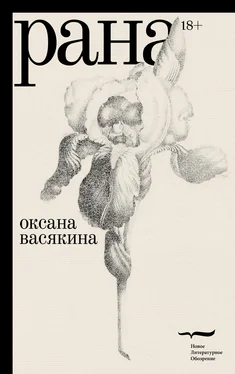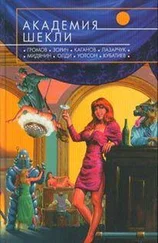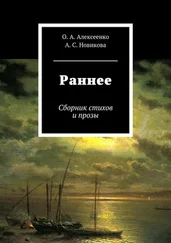Мама уезжала и оставляла меня с отцом. И все рассыпалось. Мама была матрицей, она структурировала время и пространство. Отец кормил меня слипшимися макаронами, а по дому бродили его друзья. В сад он меня не водил, я была одна. По телевизору я могла смотреть только два канала, но по ним не показывали ничего, что могло меня заинтересовать. Я, пятилетняя, была предоставлена сама себе. Еще был видеомагнитофон и всего одна кассета. На первой части кассеты были записаны клипы группы Enigma, помню страшный завывающий голос и аналоговый видеоэффект, с помощью которого человек парит на флуоресцентном фоне и двигает руками. Этой записи я боялась, было в ней что-то зловещее. На второй части кассеты был записан фильм Алана Паркера «The Wall». «Стена» вся была пронизана антимилитаристским пафосом, натуралистические изображения войны не были похожи на те военные хроники, что были доступны по телевизору. Я закрывала глаза, когда в самом начале фильма после взрыва камера плыла по телам раненых и останавливалась на мужчине с полностью замотанной окровавленными бинтами головой. Его лица не было видно, он весь был телом войны, страшным, проживающим боль и ужас. Обмотанная бинтами голова была похожа на те маски, которые в массовых сценах фильма были надеты на детей и взрослых. Я не знала нужных слов, но чувствовала сообщение фильма: нам страшно, и мы все равны перед тоталитаризмом и смертью.
Мультипликационные вставки – марш молотков и гениталиеподобные судьи – отвращали. «Стену» я крутила снова и снова, просматривала фильм по несколько раз за день. В пять лет я могла нажать на кнопку видеомагнитофона, но не могла понять, что именно меня завораживает в этом натуралистическом изображении человеческих страданий. Теперь я понимаю, что дело было в мальчике, главном герое фильма. Он был очень одинок. Вместе с ним я бродила по игровой площадке и подходила к незнакомому взрослому, чтобы тот покатал меня на карусели. Вместе с ним я находила огромную больную крысу в рыжем закатном поле. Вместе с ним хоронила друга-крысу в канале. Фильм буквально кишел образами мертвых тел и умирания, меня завораживало то, что все в фильме прошито темой смерти, она была началом и причиной всего, что происходило с героем. Полагаю, здесь истоки моей крепкой привязанности к детальному осмыслению телесности: мертвой, живой, умирающей. Здесь хранится исток моего пристального взгляда туда, куда обычно не смотрят, не желают смотреть.
Мне следовало бы стать врачом-патологоанатомом или смотрительницей в кунсткамере, но я занялась поэзией. Думаю, дело было в «Стене», это «Стена» была моим первым проводником в понимании того, что такое метафора. «Стена» научила меня тому, что мир – это сложная связная вещь, и его осмысление возможно лишь тогда, когда ты получаешь опыт и преобразуешь его. А поэзия и есть работа опыта и осмысления. Поэзия всегда живет в связке с памятью и забвением: с тех самых пор, когда Гомер начал перечислять корабли, а Симонид назвал имена погибших на пиру.
Поэзия – это мой способ забывать так, чтобы об этом знали другие: те, кто прочтут и услышат. В песне «Mother» группы Pink Floyd есть строчка «Mother do you think they’ll like this song?», а за ней следует и другой вопрос: мама, как ты думаешь, они не оторвут мне яйца? Поэзия о памяти и забвении – это опасная вещь. Она угрожает тем, о ком помнят, но особенно тому, кто помнит и хочет забыть. Она спасает тех, кого помнить необходимо.
Я хотела забыть многие вещи – насилие, чувство отчужденности, нищету – и написала об этом целую книгу, после чего была осуждена за нее теми, кто помнил меня и знал. А потом прощена. В этом тоже кроется сила поэзии, она умеет помочь простить. Она научает прощать и обращаться к чужому опыту.
Я начала писать цикл «Ода смерти» еще тогда, когда мама была жива.
Ода смерти
1
за пару недель до своей смерти мама призналась
что когда она перестала вставать
она заметила что выделения на ежедневной
прокладке странно пахнут
я спросила ее: на что похож этот запах?
и она ответила: этот запах похож на старый корабль
который не спустили на воду
и тогда я пошутила что мама стала поэтом
и мама немного мне улыбнулась. мне кажется она
не поняла, почему я назвала ее поэтом
ведь это так просто —
лодочка вагины истлела
так и не спустилась на воду и жизнь ее остановилась
как будто жизни не было никогда
а всегда был воздух тяжелой немой беспомощности
и боли
а еще труд терпения
и теперь она лежит на диване как серый
избитый остов
а жизни так и не случилось
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу