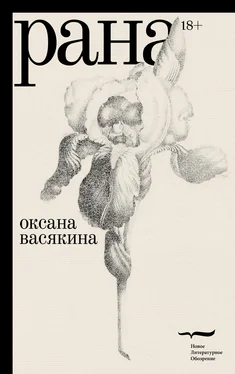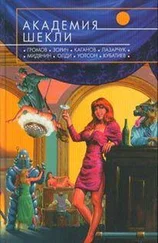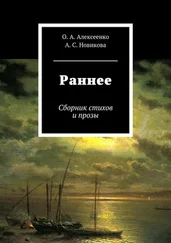А за день моего выезда в Волжский я увидела другую птицу. У самого входа в дом на середине тропинки сидел серый воробей. Он был жив, но очень тяжело дышал. Когда я приблизилась к нему, он не двинулся и продолжал сидеть на месте, мне даже показалось, что я слышу его шумное тяжелое дыхание. Тогда я сняла рукавицы, сгребла его в обе ладони и убрала от тропинки к углу дома. Я знала, что внутри этой птицы знак, что я должна помочь матери уйти без мучений. Именно поэтому, вернувшись в Москву после пяти дней жизни рядом с ней, я нашла способ определить ее в хоспис, где без чувств и боли она умирала несколько дней. Я много думала о том, что птиц тянуло ко мне и в этот дом потому, что из него я буду выезжать к мертвой матери и привезу ее именно сюда. Они чувствовали смерть и предупреждали меня о ней и о том пути, который мне предстоит проделать, о моем немом переживании ее смерти, о жизни с материнским прахом в одной комнате. Я знала язык птиц, а птицы знали, что я могу прочитать их сообщения.
Теперь смешная ворона мне не казалась такой зловещей. Смерть мамы перечеркнула значения явлений, ее мир схлопнулся и магическое предназначение птиц растаяло. Ворона просто любопытная птица. Она прилетела просто так. Ворона меня не знает, и смерть уже далеко, ее привлекли хрупкие зернышки и светлое мерцание фарфоровой чашки, она хотела поесть и немного похулиганить.
Недавно я заметила, что кроме звуков, доносящихся со двора и с дороги, есть еще другие: стук, скрежет и писк. Я долго ходила по квартире, пытаясь вычислить место, откуда доносится звук, а потом, уже раз в пятый выйдя на балкон, опустилась на колени и прислушалась. Внизу, в щели обшивки балкона маленькие птицы свили гнездо и высидели птенцов. Голоса птенцов переливались, иногда было слышно и чириканье старших птиц. Они живут рядом с нами, и их мир отдельный и очень хрупкий. Кажется, они не нуждаются в нас, чтобы просто быть и продолжать передавать жизнь из одного птичьего поколения в другое.
Когда на моем лобке стали проявляться тонкие волоски, я этого не заметила. Мама заметила их, я сидела голая на деревянной перекладине в ванной и парила ноги в красном пластиковом тазу. Мама приблизилась, чтобы помочь мне вылезти, она подошла ко мне с полотенцем и наклонилась достать мои распаренные ноги. Вдруг она зависла и потрогала пальцами с длинными ногтями мой пухлый лобок. Она перебрала пальцами несколько тонких курчавых волосинок, хмыкнула и отстраненно сказала, что я становлюсь женщиной.
Я не хотела становиться женщиной. Я хотела оставаться телом, которое я есть. Ведь становиться женщиной значило становиться матерью. Мать я страстно любила, но моя любовь была любовью, желающей обладать. Быть – значит равняться себе самой, но обладать подразумевает то, что ты имеешь то, что уже есть. А значит – не быть равной себе. А то, чем ты обладаешь, теряет свою автономность.
На следующий день я решилась потрогать волоски на своем мягком лобке. Это были волоски разочарования, траурные волоски. Они золотились и переливались, были жесткими в моих пальцах.
Я не становилась женщиной еще долго. Я противилась быть женщиной и не замечала пробивающейся груди, первых месячных, я не замечала, что тело мое становится женским.
Стоя у гроба матери, я посмотрела на себя: на мне были широкие черные джинсы и черная фуфайка, под которой я прятала собственное тело от себя и мира.
Мать умерла, не оставив после себя ничего: в ее потертом кнопочном телефоне хранились только СМС об оплате света и газа. После ее смерти я почувствовала, что внутри меня появилась новая пустота и медленно, на ощупь, начала проникать в нее. Я проникала в нее, мой язык и взгляд постепенно становились материнскими, как и мои бытовые привычки. Когда я смотрю на мир, я чувствую, что она смотрит на мир через меня. Я чувствую ее внутри себя постоянно.
После ее смерти моя поэтическая машина сломалась, забилась, как мышца. Когда приседаешь много раз, икроножные мышцы горят, становятся твердыми и больше тебе не повинуются. Именно это случилось с моей поэтической речью, она перестала мне повиноваться. Сломался язык, сломался орган производства поэтического вещества.
Я пишу грубо и наотмашь, но все-таки кое-что я сделала после ее смерти, вокруг которой сгустилось все мое внимание. Я шла за ней в ее смерть и рассматривала то, как устроен мир умирания; я вспоминала, как распадалось ее тело. Лежа в темноте перед сном, я рассматривала образ матери и в воображении следила за ее умиранием. Мне было страшно туда смотреть, но не смотреть я не могла. Потому что за смертью не было ничего. Потому что смерть была единственным местом, в которое можно было смотреть и видеть.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу