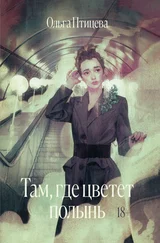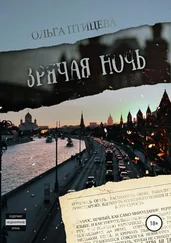В кармане предательски жужжит. Тянусь к нему, но Катюша быстрее. Она выхватывает телефон и пятится назад, жадно всматриваясь в экран. Я вижу оповещение, знаю, что там написано. Катюша смахивает его, как крошки со стола. Мужское имя. Не баба. Не редакторша.
— Где? — спрашивает она, и я вижу, как побелели костяшки ее пальцев. — Где текст?
— В заметках.
И пока Катюша читает, я стою перед ней с затянутым на горле шарфом и не могу пошевелиться. Смотрю, как она морщит нос, как проговаривает слова, беззвучно шевелит губами, как медленно моргает, давая себе секунду-другую, чтобы ухватить суть накорябанных мною буковок, как тянет в рот палец, выкусывает кожицу с мясом, только бы заглушить свою злость. Я сжимаюсь от ее боли, когда оторванный заусенец тянет за собой лоскут живой кожи, но Катюша будто и не замечает этого — она заканчивает и щелчком блокирует экран. А я уже знаю, что она скажет.
— Говно. Кривая нудятина. Так не пишут, Миша. Даже твой Зуев такую херню не продаст. Ты сам-то перечитывать пробовал? Писатель, мать твою…
И сует мне телефон обратно, будто боится заразиться от него, испачкать ладони, обзавестись несмываемой меткой. Я смотрю, как она возвращается в свое логово и задергивает шторку. И никакой больше дрожи, никакой перепуганной пустоты. Никаких слез, Миша, а ты повелся, опять повелся. В тот момент, когда она научилась плакать, ты должен был понять — это конец. Бесслезная твоя Катюша — нежная девочка, ангельская горбунья — исчезла. Может, и горб у нее появился после? Может, не было его, когда врастали вы друг в друга на полу под окном?
Я стаскиваю шарф, впускаю в горло воздух, но легче не становится. Нужно спрятаться. Кошки уходят умирать в самую темную щель. Найди свою и сдохни уже, как подобает. Я бреду к шкафу, запинаясь о собственные ноги. На плечо мне слетает Петро.
— Петр-р-руша хороший, — скрипит он голосом, так похожим на мой, что меня передергивает.
Петро обижается, взлетает на гардину и затихает. Надо же, и правда запомнил мои причитания. Зря Катюша про него так. И про меня зря. Нудятина. Как об стенку горох. Так не пишут. Тупенький. Что с него взять? Что с тебя взять, Миша, кроме потуг твоих, никому не нужных?
В шкафу тесно и тихо. Поджимаю ноги, скрючиваюсь, чтобы уткнуться лицом в пустоту между коленями и грудью. Дышу через раз. Ни о чем не думаю. Растворяюсь. Если думать о том, что ни о чем не думаешь, то мысли сами собой замедляются. Тихо-тихо. Катюша поспит и забудет. А текст я удалю. Посижу еще немного в темноте. Подышу пылью и амброй. И удалю. Никто не вспомнит даже. Завтра напишу Тимуру, чтобы готовил Зуева к разрыву. Обещал помочь, так помогай. Тимур. Изворачиваюсь, вытягиваю телефон из внутреннего кармашка, куда успел засунуть его, пока брел к шкафу.
«Текст сырой, но хороший. — пишет Тимур, а я смаргиваю, чтобы развидеть. — Отредачим и будет отлично. Пиши еще!»
Тим
Шифман не шел из головы. Тим легонько оттягивал веки, чтобы под ними собрался воздух, и моргал потом, чувствуя, как малюсенькие пузырьки лопаются, щекочут глаза. Не помогало. Шифман вгрызался в подкорку, копошился там вместе с белыми гольфами и дырой на коленке. Пока вагон метро тащил Тима по перегону, повсеместный шум сам собой складывался в отзвуки голоса, который повторял и повторял: «Ми-ша-ма-ша-ми-ша-ма-ша».
Тим потер виски.
— Ми-ша-ма-ша, — продолжал шипеть вагон. — Ма-ша-ми-ша.
Рядом сидел мужчина лет пятидесяти. Клетчатое пальто лоснилось на рукавах, но смотрел он перед собой с нескрываемым превосходством.
— Слышите, как шипит? — спросил он Тима.
Пахнуло вчерашним луком. Тим отстранился, но кивнул.
— Взорвется скоро, — трагично закончил мужчина. Откинулся на спинку сиденья и закрыл глаза.
Тим вскочил и встал у дверей. Его покачивало вместе с вагоном, со всем его шипением и скорым взрывом. Казалось, что это не раздолбанное метро дало сбой, а в самом Тиме что-то надломилось и несется теперь через темный перегон к раскаленной вспышке. Тим выскочил на перрон, стоило дверям разъехаться, растолкал пассажиров, рванул к эскалатору и пронесся по нему вверх, хотя в боку тут же начало противно колоть.
Ельцовой не было в сети уже сорок минут. Это могло означать только две вещи — либо деканский дрищ задушил ее в объятиях, расчленил и теперь закапывает в университетском скверике, либо повел пить красное сухое и оказался не так уж и плох. Оба варианта вызывали в Тиме тревожные копошения, но он старательно отгонял их как несущественные. Существенное ждало в профессорской квартире, до него еще нужно было дойти, прошагав через аллейку. На стыки плиток Тим больше не смотрел. Не было на его пути столько плиточных дорожек, чтобы собрать клубок неприятностей, который прицепился и все никак не желал отлипать.
Читать дальше




![Ольга Птицева - Зрячая ночь. Сборник [СИ]](/books/399654/olga-pticeva-zryachaya-noch-sbornik-si-thumb.webp)
![Ольга Птицева - Фаза мертвого сна [СИ]](/books/399655/olga-pticeva-faza-mertvogo-sna-si-thumb.webp)
![Ольга Птицева - Брат болотного края [СИ]](/books/399657/olga-pticeva-brat-bolotnogo-kraya-si-thumb.webp)