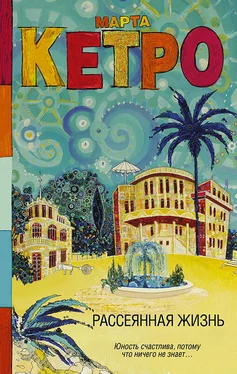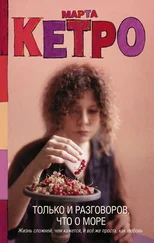Её всё это нисколько не смущало, болело только оттого, что раньше или позже придётся уходить, отправляться на вокзал, садиться в электричку и ехать в непроглядную темноту, густеющую всё сильней. «Железнодорожное», «33-й», «43-й», «Храпуново» — с каждым километром она угасала, тени вокруг превращались в нетрезвых, но внимательных хищноватых людей. Она никак не могла понять, почему эти, пьяные, всегда уроды, а он всё равно красив — смешной, тонкий и свободный. Он другой, из другой глины лепленный, и тело его, и манеры, и голос с лёгким бакинским акцентом — не делали таких в Московской области.
В тоскливых «собаках» горьковского направления была стихийная иерархия, про которую не говорили, но все понимали. Точно как женщины из чистой публики откуда-то знали, что после сорока положено надевать драповое пальто и вязаный берет, так и в электричке они всегда садились в середину вагона, а места у самой двери оставались для пассажиров последнего разбора. Подростки, цыгане, дачники с огромными грязными сумками, коробейники и просто бухая шпана всегда пристраивались к выходу, а фасолька не умела вовремя протолкнуться к чистым и садилась с этими. Но до поры была защищена, и люди опасные пока держались поодаль и ждали. Она же о них не помнила, смотрела бездумно в заоконную темноту и чувствовала, как клубочек разматывается, та нитка, что её с ним соединяет, длится всё дальше, от Братеева до Фрязево, тянется, но не рвётся и не порвётся никогда.
А потом он уехал.
Нет, ещё не насовсем, только на осень — сына в школу отправить, всё равно по этой погоде туристов на Арбате стало меньше. Обещал приехать зимой, когда придёт пора ставить визу, заодно и подзаработать последним рывком на отъезд.
Она знала, что помирать ещё рано, вернётся же, но всё равно немножечко умерла. Каждый день писала ему романтические письма, беспомощные в литературном смысле — слишком много соплей, истерики и слова «люблю». В средних классах школы она ещё успела застать политинформации — раз в неделю несчастные сонные дети приходили в класс на полчаса раньше и докладывали друг другу международную обстановку. Для этих занятий у неё была коричневая тетрадь в коленкоровой обложке, куда полагалось вклеивать вырезки из газет с самыми горячими новостями. К счастью, эта каторга быстро закончилась вместе с эпохой, а в тетрадке осталось много пустых листов, и теперь она заполняла их кривыми прыгающими строчками — почерк у неё и так-то был не очень, а от слёз и страданий и вовсе испортился. Потом показала Джефу эти записи, а он был столь милосерден, что только поцеловал её в макушку.
Начался семестр в химкинском «кульке», где она училась на библиотекаря с тем, чтобы потом вести жизнь в чистенькой невинной бедности, выйти замуж за инженера, уйти в декрет и стать домохозяйкой, лишь немного странноватой на общегородском фоне. Так желала её мама — как себе. У самой всё шло по этому плану, вот только мужа нашла уже после тридцати, и то он, козлина, растворился на четвёртый год семейной жизни, и пришлось ей вернуться в старенький ДК, в детскую библиотеку, постепенно переползти в заведующие и там ждать пенсии, грея место для дочери. Неплохой сценарий для советских времён, да и для нынешних огненных лет — тихо, безопасно, интеллигентно. Мама очень заботилась, чтобы в свете последних веяний ребёнок не пошёл по рукам, запрещала непонятные знакомства и поздние прогулки, не говоря о том, чтобы дома не ночевать. Узнай она, что дитя не девица, или про Джефа — пьющего! сомнительного рода занятий! а, главное, женатого! — скандал был бы до небес. Не сказать, что фасолька боялась, чуть что — ушла бы, не оглянувшись, но Джеф пока не мог её принять, приходилось шифроваться.
Легко прятаться, когда ты немного мёртвая, она ездила в свой «кулёк» на другой конец Московской области и ничего не делала, только ждала. Мама, увидев, что ребёнок не живой совсем, разрешила на второе полугодие взять общагу — так-то опасалась за тамошние нравы, но девочка ходила зелёная от усталости, жалко. Для фасольки лучшего и придумать нельзя было, Джеф обещал вернуться в январе, всего-то и надо — дожить.
И вдруг он приехал в октябре. Она очень сильно молилась, и опять была услышана — он вырвался на неделю, завис у родственников в комнате, так что и девчонку «на потрахаться» некуда привести. Встречались на лавочках, целовались до обморока, он грел холодные руки у неё под свитером, а она забиралась под его длинный растаманский шарф, трогала горячую шею, нащупывала пульс и чувствовала, что это её собственная кровь бежит по артерии, её сердце стучит, и если оно остановится, фасольке тоже не жить.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу