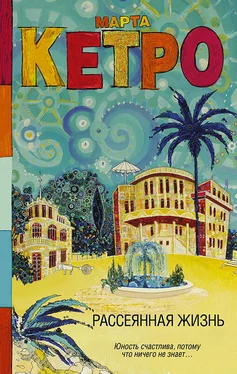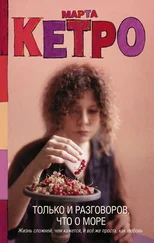Потому что на Арбате пили все и всегда. С утра поправлялись пивом, днём между делом охлаждались белым сухарём, а к шести глаза наконец-то открывались и люди приветствовали друг друга, поднимая алюминиевые солдатские фляжки: «День начался, народ!» — «День начался!»
Прихлёбывали коньячок, отдающий металлом, девчонкам наливали шампанское — в Смоленке с чёрного хода бухло не переводилось, но к ночи все переходили на водку. И это летом, когда жара, зимой же греться начинали сразу, как вставали на точку, и уже без глупостей, только сорокоградусным. При таком ритме до весны дотягивали не все, многие отправлялись отдыхать в дурку или навсегда оставались в сугробе, когда замерзая в пьяном сне, а когда и с ножом в затылочной ямке, с очищенными карманами и в последнем недоумении: «Как так, чуваки, мы же тут свои, арбатские». Джеф уже пережил одну зиму, пережил бы и следующую, а вот дальше вряд ли, уж очень резво начал.
Но жена, сын и перспективы отъезда были там, дома, а здесь пьяная от любви девочка смотрела, как на бога, и обещала отдать за него жизнь. Братки смеялись, он смеялся, но обидеть никто не мог, потому что на их глазах человечек с ангелами разговаривал, по облакам ходил, и кто помешает, тот за неё огребёт, ясно же. И потому он брал её невесомую руку и вместе с нею шёл в свет, на облака, к чертям собачьим — пока мог.
Подарки из божьей сумки продолжали сыпаться, божий луч охранял её, а божья гармошка делала дорогу под ногами быстрой и гладкой. Арбатские бабушки угощали их белой смородиной, которую они собирали губами с ладоней друг у друга, а водитель коммерческого автобуса, курсировавшего от братеевской квартиры до метро, однажды сказал, обернувшись в салон: «Со всех по рублю, а эти двое на переднем сиденье — бесплатно».
В вечерних электричках её не трогали, татуированный уголовник как-то проводил до самого дома, «чтобы никто не докопался». Юродивых в Москве без особой нужды не обижали, только уж совсем упоротые, ради больших денег или от сильного зла, да и то потом плакали и каялись над изувеченными телами. А она никому дорогу не переходила и была очевидно не в себе. Ведь всякий влюблённый — дурак, если имеет глупость надеяться на счастье, и герой, потому что осмеливается любить, помня о смерти. И вор, крадущий у судьбы всё счастье разом, которого ему бы полагалось по чайной ложечке, и праведник на прямом проводе с Богом. И маг, лёгким движением руки изменяющий мир, и жертва, потому что прилетит, ох и прилетит ему за это. Она тогда не знала, что в эти дни вычерпала свою удачу на много лет вперёд, но даже если бы и знала, такие это мелочи, такая ерунда.
Забавно, что она, страстно желавшая внимания и признания, совершенно не беспокоилась о том, как Джеф к ней относится. Это позже её любовь стала похожа на бездонную чёрную яму, которая поглощает человека целиком и никогда не насыщается; которая от великого голода умеет принять его со всеми потрохами и разрешить ему быть каким угодно — но взамен требует ответной любви, потому что лишь ею и может наполниться. А тогда она только отдавала. Как предатель, любовь сдала ему всё: и саму фасольку, и её коротенькое прошлое, и всё, чем она дорожила прежде, и будущее. Обрушившееся на неё не имело ничего общего ни с «отношениями», ни с болезненным самолюбием, ни с каким-либо социальным голодом. Она вполне осознавала, что это её личное испытание, дар, судьба — и если Джеф не гнал от себя, позволяя быть рядом и любить, то этого достаточно. Её маленькая бессмысленная жизнь наконец-то обрела обоснование — она родилась, чтобы это испытать. Не беспокоилась и не ревновала до такой степени, что уезжая вечером домой — мама бы убила, не вернись она ночевать, — могла подойти к молоденькой арбатской шлюшке и попросить: «Побудь сегодня с Джефом, не хочу, чтобы он грустил и бухал, а я тебе должна буду». Милое создание, промышляющее на улице не столько за деньги, сколько за тусовку и выпивку, широко раскрывало небольшие голубые глаза и кивало белокурой головкой — не спорить же с юродивой, — но к ночи сбегало от греха: может, и шлюшка, но не дурочка, понимала, что лезть в эти жернова судьбы не нужно, пусть уж сами как-нибудь.
Казалось бы, пафос этой любви был несколько великоват для места, времени и самих участников истории, но юные души вообще склонны к героическим переживаниям, а годы на дворе стояли революционные, пахнущие дымом, страстью, риском и крушением старого мира. И где, если не на этой длинной улице, в которую, как в трубу, ветер задувал на Арбатской, подхватывал прохожего и нёс до Смоленки — мимо матрёшечников, побирушек, дилеров, валютчиков, старух-торговок, напёрсточников, бандитов и спецов, которые всю эту шушеру выслеживали и крышевали.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу