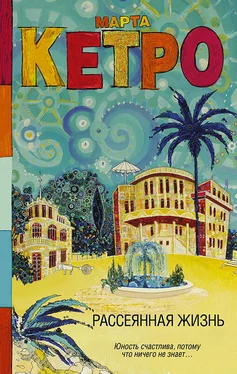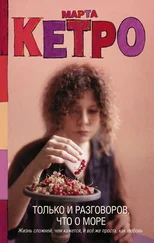Но её эти расклады всего лишь забавляли и занимали только по той причине, что в них она черпала подтверждение своей веры — ничто не случайно, есть закономерности, связи и судьба, они с Джефом должны быть вместе. И будут.
Наступил её день рождения, и в подарок она не хотела ничего, кроме как провести его с Джефом. Он с утра был занят, договорились встретиться в два в метро, и без четверти она уже стояла в центре зала, а толпа текла, огибая её, как маленькую мраморную пионерку — не замечая, но и не задевая. Замерла сусликом, высматривая его высокую тощую фигуру, но он всё не шёл, и через час она сдалась, опустила плечи и поехала на Арбат. Уж если не с ним, то хотя бы на том месте, где есть его следы.
Начался отчаянный июльский ливень, который всегда шёл в день её рождения, промочил насквозь и пышную юбку, и белую кофточку, в туфлях захлюпало, а кудри распрямились и прилипли к лицу, но разве это важно, когда где-то под этим дождём идёт Джеф? Она не горевала ни секунды и совсем не удивилась, когда он догнал, обнял и повёл в «Аквариум», выпить стаканчик за её здоровье. Упали там с Коленькой, Самиром и Андреем Викторовичем, они за дела перетирали, а она сидела тихо — любила его. Стол из светлого лакированного дерева, белое вино в запотевшем бокале, таком простом, что слово «бокал» для него слишком нарядное — копеечная стекляшка для копеечного винчика. За соседним столиком у людей Настоящий День Рождения: именинница-звезда, пьют шампанское, подарков у неё гора. А фасолькин букет до неё не доехал, оставлен в метро на лавочке — Джеф когда понял, что безнадёжно опоздал, со злости его там бросил. Ну, так он сказал: что это были розы на метровых стеблях, белые — бордовые тебе рано. Так он сказал, и с тех пор она любила только белые цветы.
А букет не жалко, она всё равно не могла бы привезти его домой, там мама, которой ничего об этом знать не положено, и вообще другая жизнь. Нет, нет. Там просто другое, а жизнь вся здесь. Жизнь сосредоточилась под его длиннопалой, по-обезьяньи волосатой кистью, которая лежит поверх её руки. Всё мимо течёт: и день, и заходящее солнце сквозь тучи, и разговоры, и пролитое вино со стола, а жизнь — вот он сжал мимоходом пальцы, а вот расслабил, гляди того уберёт руку (тогда она, наверное, умрёт); погладил косточку на запястье по часовой, а потом против; потянулся было за спичками, зажечь следующую беломорину, но взглянул на фасольку и переложил её кисть к себе на колено, а уж потом закурил; вернул её руку на стол, снова держит — до следующего глотка вина. И жизнь её идёт пунктиром, от новой папиросы до винчика. Она сидит тихо — любит его.
Той, за соседним столом, лет столько же исполнилось, сколько и ей, но никто не верит: та — девушка, а фасолька — ребёнок, у той застолье, а у неё Джеф, у той всё впереди, а у неё уже всё случилось. Ведь для каждой женщины есть только один мужчина, и хорошо встретить его, когда оба взрослые, но молодые и свободные. А что если за тридцать уже, позади полжизни, семья и дети всякие? Или, наоборот, обоим по семнадцать, первая любовь и жениться рано? Сдуру разбежались, а потом до конца дней сиди, смотри на его фотографию, плачь и вспоминай. Она надеялась не потерять его, ведь невозможно это, но уже знала, что главное — вот оно — произошло.
Теперь наиважнейшими на свете сделались электрички, которые сначала с огромной скоростью несли её к нему, в свет, и за окном мелькали какие-то мёртвые имена: «Храпуново», «43-й», «33-й», «Железнодорожное», — а в ней с каждым километром нарастала радость.
Широко раскрытыми глазами она смотрела и не видела, грезила наяву, как долетит до его хаты, войдёт и сбросит туфли, а он сначала медленно и лениво улыбнётся, а потом обнимет длинными руками, обожжёт огнём, а дальше уже неважно. А если приезжала не с утра, а днём, встречались на Арбате, он бывал слегка пьян, а к вечеру уже и не слегка, и она с умилением наблюдала за его расслабленными и абсолютно свободными движениями — будто не на улице он, а у себя дома слоняется.
Как-то раз гуляли, она цокала на неизменных своих каблучках, а он полз рядом на четвереньках, как большая умная собака; иногда ложился перед каким-нибудь местным художником и рассказывал ему, что картины его говно, мужик, без обид, но это говно. Мог сожрать недоеденную кем-то котлету на задворках кафе, утащив из-под носа у возмущённого бомжа. Время от времени, уже без неё, ввязывался в драки, но быстро утомлялся и садился на землю со словами: «Как я устал, чуваки, да ладно». Как ни странно, ему за такое поведение ничего не было.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу