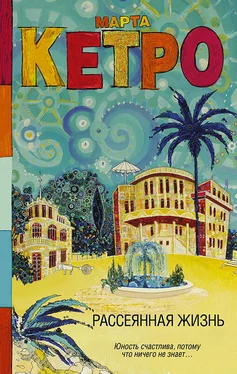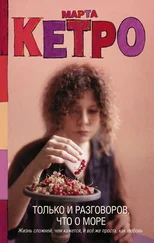Так начались их последние недели, густые, как сны в полнолуние, в которых боль мешается со счастьем, наслаждении со слезами, а страхи с надеждой.
Съёмная хата в Солнцеве стала их последним приютом, островом, небесным шалашом, куда она каждый раз прилетала, не замечая расстояний. С учётом двух пересадок и пары маршруток дорога от «кулька» занимала часа три, то есть очень быстро, если всё время представлять, как ты сейчас войдёшь, на пороге уронишь шубку, потом потеряешь платье, а потом голову.
Джеф начинал ещё в коридоре, прижимая её к белой шершавой стене — это называлось «фактурные обои», но она о них не думала, а только чувствовала, как они холодят и царапают кожу. Потом оказывались в постели, и она видела свои узкие белые ступни, которые он удерживал одной рукой на весу — вообще-то, как сырую курицу за лапы, но это, конечно, глупое сравнение. И ещё потом она лежала носом в подушку, сжимала ноги, вытягивалась в струнку, рыбкой — а он её всё любил и любил. Он её вообще хорошо и сильно любил, и ради этой любви она сбегала с лекций, заскакивала в общагу и переодевалась, снимала штаны и свитер, надевала чулки, платье, шубку и сапоги и ехала на их благословенную окраину, где никогда не заходит солнце.
Прочие женские вещи — лифчик, трусы с начёсом, фуфайку тёплую и колготки — она игнорировала, ведь Джеф начинал ещё в коридоре, а она хотела, чтобы ему было удобно, чтобы он чувствовал, как близко под шубкой у неё сердце, и как вошла, сразу — вот, вот она вся. Вот горячая голая грудь в шерстинках от пушистого вязаного платья, живот, попа холодная, красные коленки в примёрзшем капроне, вот другое всякое — только люби.
И он, правда, очень её любил, не придраться. Чем меньше на ней было одежды, тем крепче, и её мороженые коленки, и тайные доступные места заводили его до невозможности, и он иногда понимал, что так и помереть недолго на ней, на бесстыднице. С каждым разом она думала, что вот сейчас он уже не сможет из неё выйти и останется навсегда, а он думал, что, наверное, сдохнет, но хорошо-то как, господи. И бог её любил тоже, подгадывая с погодой и расписанием, чтобы жар её тела не успевал остыть, пока бежит от общаги до маршрутки и метро, а потом от метро и маршрутки до дома — их единственного настоящего дома, который они как-то у судьбы выпросили или украли. А потом он, бог, то ли устал, то ли просто отвлёкся, но стукнули крещенские минус двадцать, а она всё бегала и бегала, и вся была огонь, под её ногами снег таял и распускались цветы — крокусы.
Мобильных телефонов тогда не было, точнее, кто-то ими уже вовсю пользовался, но в её реальности их не существовало. И простая поездка из Химок в Солнцево превращалась в странствие безо всяких гарантий: доедешь ли живая, встретят тебя там, не встретят, а если вдруг никого нет — на пять минут за сигаретами они вышли или уехали вчера и теперь лежат убитые в подмосковных снегах? Ведь мужики как раз собирались за город накануне забирать новую партию расписных яиц у художницы, с которой Коленька имел шашни. «Он её как трахнет, — ржали они, — так она яйца откладывает, а без этого никак». А заодно и побухать в деревенском доме с банькой, так что фасольку не взяли, ей учиться надо, да и художница была ревнива. Фасолька смотрела на неё с большим сочувствием — немолодая, тридцатилетняя, а туда же, любит. Джефу тоже тридцатник, но мужской век другой, долгий.
Заранее договорились, что она приедет в Солнцево к вечеру, вот и все ориентиры. Когда сильно любишь, жизнь становится, как внутри книги «Москва — Петушки»: всё время куда-то едешь, каждая улица может повернуть в неизвестном направлении, поезда проезжают мимо станций, утро сразу переходит ночь, в горло твоей любви кто угодно может воткнуть заточку, все пьяны и всегда ангелы вокруг. Кстати сказать, по легенде Веничка Ерофеев учился в их «кульке» и жил в той же жёлтой общаге, так что дух его в ту зиму незримо витал поблизости, иногда осеняя фасольку невидимыми крылами и запахом перегара.
И вот она сидела на второй паре, а сердце носилось по всей Московской области, пытаясь почуять, как он там, дышит ли. Не позвонить, а лишь вот так — почуять, нащупать. Девяностые, и у всех самых лучших мужчин такой бизнес, что ничего нельзя знать, а помочь можно только любовью, ну и под руку не лезть, если что.
Психовала она совершенно не зря, как-то с одной из попоек он явился с разбитым лицом, долго отмокал в ванне, а она мыла ему волосы, ставшие вишнёвыми от засохшей крови. Прибухнули с Самиром, который был бакинским приятелем и деловым партнёром, вроде как за отъезд и окончание общих дел. Нормально сидели, а потом браток дорогой кивнул парням, они заломили Джефу руки и держали, пока тот смачно расписывал ему морду — за долги какие-то старые, за делёж точки на Арбате, за то, что Самир остаётся в мёрзлой Москве, а он сваливает в солнечные края, ну и за то, что обезьяну эту бабы слишком любили. «Не плачь, фасолька, это родина со мной прощается», — говорил Джеф, улыбаясь разбитым ртом, а она и не думала плакать: мужские тёрки, почки не отбиты, живой вернулся и ладно.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу