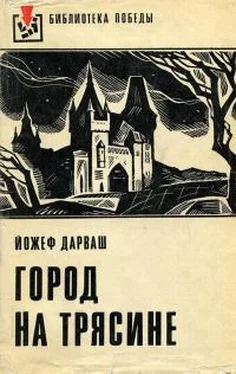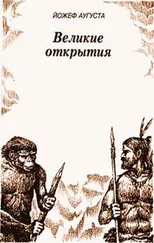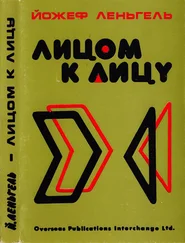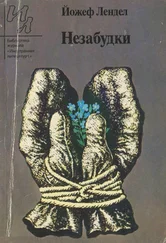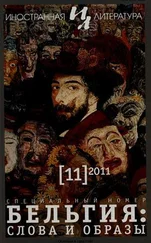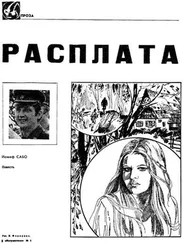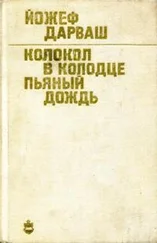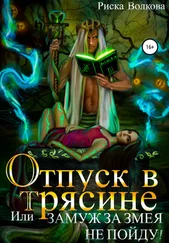Так жила Сапожная слободка, вытянувшаяся в ряд на самом дальнем конце села, встречая первые дни сияющей весны. Слободка походила на остров. С трех сторон ее охватывали плоские, как стол, пашни, вытянутые в длину полоски зеленеющей пшеницы, иссиня-черные квадраты, запаханные под озимые посевы ячменя и кукурузы, истощенные, высохшие пустыри с редкой лебедой, а среди них, будто ревнивые наседки, виднелись дальние и ближние хутора. С четвертой стороны слободка, как в стену, упиралась в замкнувшееся в своей дремучей извечной спеси «внутреннее» село. Этот длинный ряд сиротливо торчащих домов, стиснутых чужими, не принадлежавшими им, полями, невольно вызывал сравнение с узеньким беззащитным островком, над которым вот-вот сомкнутся волны враждебного моря, грозившего в любую минуту смыть и унести в пучину все живое. Правда, еще дальше, за околицей, на участке, выделенном управой для застройки, за последние годы выросли новые дома, еще более сиротливые. Они и вовсе казались одинокими скалами, отрезанными от мира злобно бушующей стихией, которая вымыла вокруг них и унесла в никуда податливую и мягкую почву.
Впрочем, слободка не только казалась, но и в самом деле было островом, обособленным и изолированным от остальной жизни села. Правда, кое-какие нити все же связывали жителей слободки с коренными обитателями села, протянулись они и на хутора, и даже в дальние, очень дальние поселения, однако это ничего не меняло: общность людей, связанных одной судьбой, на все наложила свой, свойственный только ей отпечаток. В домишках, жавшихся друг к другу, жили сплошь бедные люди. Условия и обстоятельства их жизни мало чем различались, а если и различались, то не настолько, чтобы кому-нибудь из бедняков удавалось выбраться из серого потока будней, захлестывавшего неумолимо и жестоко каждый день и каждый час. Иногда обитатели слободки кидались друг на друга, дрались и ссорились между собой, но никогда не искали защиты у закона. Все возникавшие неурядицы и распри они улаживали сами, не вынося сора из избы. Даже семью Карбули, год от году все больше выбивавшуюся в люди, они судили и осуждали по своим собственным законам. Все, что заносили сюда чужие ветры, что приходило к ним из хуторов и села, а также из других мест, далеких и близких, даже явления природы, — все приобретало в слободке как бы совсем иное, особое значение. Казалось, наступившая весна в других местах точно такая же, как в Сапожной слободке. Точно так же, как везде, южные ветры прогоняли холода, выше и глубже становилось небо, ширился горизонт. Так же, расправляя ветви, потягивались деревья и зеленела, кудрявилась трава. Так же, но не совсем так. Слободка жила в своем собственном, замкнутом и не понятном для постороннего мире, хотя мир этот и был подвержен веяниям и событиям того, другого, большого и общего для всех.
Весною жизнь в Сапожной слободке будто распахивалась настежь, как оконные рамы, расклеенные после зимы.
По обеим сторонам базарной площади, широко распластавшейся позади кальвинистской церкви с колокольней, и даже вдоль тротуаров сбегавшихся к ней улиц длинными рядами стояли брички и телеги. Лошади, не покидая опущенных постромок, жевали сено. В каждой бричке непременно восседала хозяйка, кутаясь в шерстяной платок или в мохнатую, вывернутую шерстью наружу овечью шубу. Хотя было уже совсем тепло и солнце грело по-весеннему ласково, неписаный закон моды обязывал хуторских красавиц и дурнушек одеваться только таким образом, а его предначертаний придерживались строго. Неподвижно и безмолвно сидели хуторянки в своих немудреных экипажах и походили на старинных рабынь, которые сторожили кибитку своего повелителя-киргиза, прибывшего сюда из необозримых степей, и которым было строго запрещено даже смотреть на снующих взад и вперед прохожих. Вожжи смотаны в клубок и повешены на дышло, кнут с длинным кнутовищем воткнут рядом с козлами, а женщинам будто все нипочем: сидят истуканами и смотрят перед собой невидящими глазами, ожидая своего повелителя, как тысячу лет назад. В их сгорбленных позах, застывших и неподвижных, было что-то от фанатической покорности и даже торжественности религиозного обряда. Женщина сидела, ждала, погруженная в себя и в свою шубу, и лишь на несколько мгновений изменяла своей монументальной неподвижности, когда ее муж и повелитель, раскрасневшийся, в расстегнутом пиджаке, из-под которого виднелась выпущенная поверх штанов рубаха, выйдя из дверей ближайшей корчмы, направлялся к ней, слегка покачиваясь на широко расставленных ногах, останавливался перед бричкой и протягивал высокий бокал с вином своей преданной половине. Все так же молча, как по обязанности, женщина-монумент выпивала вино, вытирала губы краем платка, а затем, запахнув у горла шубу, вновь принимала прежнюю позу, словно продолжая нести безмолвный караул, назначенный по чьему-то неведомому приказу. И сидела, не повернув даже головы, чтобы взглянуть на удаляющегося подгулявшего мужа, который с бравым видом — душа нараспашку — возвращался в корчму…
Читать дальше