«Мой дорогой друг!» — стал говорить ей.
Осел! «Мой дорогой друг»! С каким удовольствием она отхлестала бы его по холеной морде!
«Друг»! Идиот! Пока не постарела, была его любовницей. Теперь же ему нужны ее денежки.
А что, если ему больше ничего от нее не понадобится?
До П. Махарт добрался после полудня. Ему сказали, что Краус, секретарь областного комитета, придет не раньше чем через два часа; если он непременно хочет видеть его, пусть дожидается. Ондржей сидел сейчас в жарко натопленной приемной, курил сигарету за сигаретой и глядел на плакат, висящий на стене.
«Двухлетка — две ступеньки к благосостоянию».
На поезд он едва не опоздал: заседание заводского совета [2] Заводские советы — организации трудящихся на заводах, действовавшие наряду с комитетами профсоюзов.
затянулось.
Ланда из технического бюро, Штых из заводоуправления и, само собой разумеется, Бенедикт тормозили, как на грех, обсуждение. Заладили: нельзя, мол, нарушать правопорядок, закон есть закон. Верховный суд, мол, тоже учреждение народно-демократической республики — ну и прочее в том же духе. Но в конце концов проголосовали. Завтра, стало быть, начнется забастовка, а Прухову, если объявится, просто не пустят на завод.
После заседания он должен был еще забежать домой, переодеться — сегодня ночевал у Тонки.
Проклятая история! Просто ума не приложишь, как теперь быть.
Тонка — женщина хорошая, да и не из счастливых, все это так. Но жениться на ней? Нет, этого Ондржей не мог себе представить. Ему даже в голову никогда такое не приходило, не то чтоб он об этом всерьез задумывался. Но как быть теперь? Случилось ведь, случилось! Тонка была ему просто необходима, не мог больше выдержать, ничего не соображал. Ведь все его помыслы были о Марии, думал о ней днем и ночью, работа из рук валилась. Это было как болезнь, как наваждение, он едва не сошел с ума. А ведь женщину вытеснишь из плоти только женщиной. Да и Тонке тоже было несладко. Какая уж у нее жизнь с Францеком! За два года всего раза три был он дома. Он сам как бы и благословил их на эту связь. Если бы Францек сидел дома, никогда бы ничего между Ондржеем и Тонкой не произошло.
Он встретил Францека — это было как раз в канун Нового года, в сорок пятом, — и вынужден был с ним выпить. Не видел его добрых семь лет, с тридцать восьмого года.
«Заходи к нам вечерком. Не беспокойся, ты нас не стеснишь!» — сказал Францек. И он пошел к ним, потому что тогда ему больше некуда было податься.
«Если хочешь, чтоб тебе жилось хорошо, — поучал Францек, — не надейся только на руки. Нужно, чтоб котелок варил. Все, кто хоть что-нибудь имеют, никогда свое добро трудом не наживали — это ты помни. А лозунгами сыт не будешь».
Еще до полуночи Францек напился и проспал Новый год. Повалился, как свинья, на кушетку и захрапел — ничего не соображал, не слышал, не видел. Ондржей остался с Тонкой с глазу на глаз. В тот вечер он испытывал какое-то смятение и старался не глядеть на нее, чтобы она не догадалась о чувствах, которые вызывает у него. Но как бы не так, она догадалась! На ней было черное платье, туго обтягивающее бедра, с короткими рукавами и с глубоким вырезом на груди. В Ондржее вспыхнуло жгучее желание прикоснуться к ее телу. Его, изголодавшегося, истомившегося в тоске по женщине за два года концлагеря, униженного отказом Марии, отчаянно потянуло к Тонке. Она была ему необходима; ни воля, ни разум не могли ему тогда помочь. И когда они остались одни, глаза их неожиданно сказали друг другу то, что они не могли произнести вслух. Не было сказано ни слова. Ондржей не знал, как это получилось, но вдруг они оказались вместе в темной холодной комнате, его руки сжимали ее тело, и он никак не мог насытиться им. Это было как чудо, как сон, как глоток воды, поднесенный истомленному жаждой. Ее тело было ароматным, мягким и теплым, он любил его. Тогда, вероятно, он и ее любил. Какое-то время сам верил, что это и есть любовь. Он твердил себе об этом, убеждал себя, что любит ее. Так он гасил свою безнадежную страсть к Марии. Связь с Тонкой избавляла его от тоски, возвращала ему чувство собственного достоинства. Но только на какое-то время. На какие-то минуты. Очень скоро все превратилось в привычку, а мучившие его голод и жажда лишь усилились. Ни от чего он не избавился, ничего не забыл, благодарность же исчезла, и осталась только злость. За все расплачивалась Тонка. Она стала неприятна ему своей откровенной доступностью. «Я для этого только и существую: протяни руку — и бери, срывай…»
Читать дальше
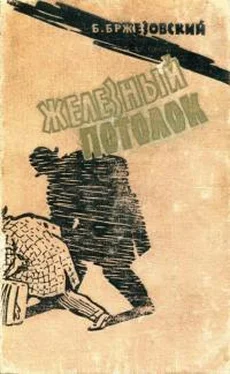





![Эллен Хоун - Золушка и стеклянный потолок - и другие феминистские сказки [litres]](/books/395223/ellen-houn-zolushka-i-steklyannyj-potolok-i-drugie-thumb.webp)



