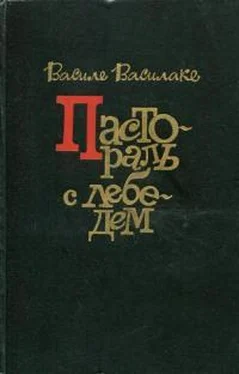Теперь же по существу о дожде, не только об аплодисментах. Как закономерное явление, в конце августа, и тем более в начале сентября дождь нужен до зарезу. Пусть читатели и читательницы, да и все отпускники не сетуют на нас за этот августовский ливень. Просим их, босиком или в босоножках, пробежать под его освежающими стрелами, ощутить его славную дробь, как ощущает его вспаханная зябь, стерня, поля, готовые принять семена озимых, чтобы налились и они, как виноградные ягодки, янтарным соком, чтобы щеки их порозовели, как поздние помидоры; пусть знают, что лето хоть и бежит, но солнце еще в седле…
Другое дело — Беллони-Мэлигэ. Он не пошел на лекцию в Дом культуры.
Утром встал рано — что-то плохо спалось, просыпался три раза за ночь, причем дважды до полуночи. Первый раз Антону Беллони по прозвищу Мэлигэ показалось, что он забыл выключить телевизор, — в ушах беспрестанно раздавался какой-то камышовый шелест, а он… Конечно, во сне ему показалось, что он очутился покинутым, брошенным утенком на каком-то высохшем озере, где только камыш, один камыш-ш-ш… Царство камыша без единого осколка зеркальной водицы. И он — утенок на потрескавшейся земле, и ни ступить, ни двинуться, ибо ему грозит провалиться в зияющие, разверзшиеся от засухи трещины. А в ушах камыш шелестит, черт возьми. И вроде дождь вот-вот пойдет, а ожидать — это значит жить. Открыл в темноте глаза — камыш еще сильнее стал шелестеть. «Телевизор… — подумал он. — Кому-то аплодируют — забыл я выключить. Новому космонавту, наверно. И правильно делают; им, космонавтам, принадлежит небо и другие миры, а мне надо платить за электричество…»
Встал. Зять у него был военным летчиком, а от летчика до космонавта рукой подать; почему-то от него не было ответной телеграммы, в которой бы сообщалось, получили ли они весть о том, что он с Анфисой не полетит к ним в Петропавловск-Камчатский.
Повернулся в сторону прихожей, где стоял телевизор, взглянул в открытую дверь, не увидел, чтобы экран светился. А ведь камыш шумел да шумел. Была бы дома Анфиса, встал бы да еще поругал бы ее. Бывало, засыпает с невыключенным телевизором. Она — мать, ничего для нее нет более милого и дорогого сердцу, чем смотреть про Африку по телевизору. Там дочь ее младшая, среди этих бескрайних вечнозеленых просторов с антилопами, с бедными, убогими, нищими африканцами, живущими в шалашах, и прожорливыми крокодилами в реках. А она, младшая, Изабелла, похожая на индианку, поехала учить африканцев и африканок грамоте. Муж ее лечит от малярии полуголых и тощих туземцев.
Дед Антон включил свет. Да, шелестело и шелестело, а Млечного Пути от телевизора не шло. Явный шелест, нарастающий, а безмолвный, как ночь, экран впился в него своим немым и мутным бельмом. Дед взял да выдернул из розетки шнур и лег, недовольный. Подумал: «Мыши. Какая-нибудь дрянная мышка… — И тут он вздрогнул. — Нет, так я вам ее не отдам…»
Он вспомнил о газетной подшивке, опять встал, включил свет, пошел проверить. Подшивка обычно находилась на платяном шкафу. Взял стул, чтоб подняться и разогнать мышиную свадьбу, которая как раз, казалось, доносится сверху. Но на полпути вспомнил, что перед отъездом с женой в Кишинев, когда собирались лететь в Петропавловск, спрятал подшивку в сундук.
В первые годы жизни этот кованый сундук был его единственной внушительной мебелью. Он являлся как бы вместилищем всего недвижимого, ценного из приданого, что привезла с собой Анфиса в день свадьбы. Этот сундук, тяжелый, как железный несгораемый сейф, никак не мог забыть Антон: на его свадьбе 43 года тому назад подпрыгивал он над головами подвыпивших парней, которые, по обычаю приплясывая, вносили сундук в дом. Ладный сундук, добротный.
Открыл, откинул крышку, — подшивка, точнее сказать, современный мир со своими последними известиями, войнами, переворотами, парламентскими дебатами и свирепыми диктаторами типа Иди-Аамин спал. Нет, еще не расплодилось таких грызунов, чьи зубы справились бы с дубовыми досками, обшитыми металлом, на котором еще красуются кирпичного цвета краски концерна 20-х годов «Фарбениндустри».
Дед Антон грохнул крышкой, вздохнул.
— Апчхи!..
Чихнул, высморкался, еще раз чихнул и почувствовал, что даже в груди заскрипели сердечные петли, — они были, как у дверей старого сарая, уже ржавыми, ну и заскрипели. «Так еще пару раз — и нет Антона… Какая она ни есть, моя Анфиса, но была бы она дома сейчас, спросил бы ее: «Анфиса, слышишь ты этот шелест или он мне только чудится?» — «Что?» — «Ах, забыл, что ты туга на ухо, глуховата стала».
Читать дальше