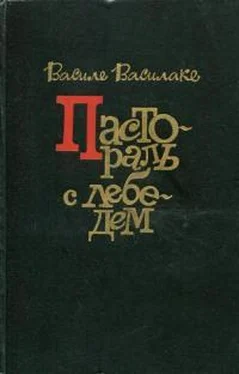— Драсьте, Николай Спиридонович! — выговорил он вслух, точно сын уже дорос до чиновника из райцентра. — Драсьте, Николай Спиридонович… — ответил сам себе и прислушался: «Годится, черт побери. Сразу ясно, не вертопрах, солидный человек!»
И вот Патику торчит в больнице, в маленьком флигеле, отданном колхозным правлением под роддом, в той самой комнатушке, где когда-то вертелась перед зеркалом смазливая попадья, наводя красоту перед обедней. Притащился дед ни свет ни заря, через заслоны-карантины пробился, сына повидать, а жена что? Жена отворотилась к стене и глаза трет кулачком. Сидит Кирпидин, нахохлившись, у Рарицыной кровати, недоумевает, с чего она сырость развела. Другая бы гордилась: вон мужик у меня, с утра пораньше прибежал, на сына порадоваться! И имя мальчишке есть, Николай, в честь деда покойного… Николай Спиридонович, чем плохо? А она, глупая, плачет.
В черном дверном проеме мелькнул белый халат.
— Ага, вы еще здесь?! — всплеснула руками медсестра. — Обход начался, вы в своем уме? Ну погодите… — и изо всех сил хлопнула дверью: сейчас приведет кого-нибудь из врачей, пусть вытолкают взашей настырного старикашку, который нахально врывается и плетет всякие бредни о «чертовом копыте», попадье и зэках.
— Ты бы разрешения спросил… — тихо сказала Рарица.
Дед Скридонаш к медичке даже головы не повернул, озабоченно поправил подушку:
— Крепко болит? Что с тобой, Рарица, скажи.
Рарица притихла, но не повернулась, стала лицо вытирать — долго-долго терла щеки смятой простыней.
Мош Скридон недоуменно поглядывал по сторонам: как это они устроены, женщины — раз-два, и глаза на мокром месте. По молодости девушки не жаловали, не баловали его вниманием, а если подстроит Скридон какую-нибудь злую штучку — только фыркнут и мимо пройдут. Без штучек с ними нельзя, говорил себе Патику: парень же ты, не чурбан с глазами. Ну, невидный, нескладный, так не всем быть со звездой во лбу! Или невелика радость знаться с батраком Василия Глистуна, вот и обходят его третьей дорогой? Не знал Патику, что нутром чуяли женщины какую-то гадливость, гнушались им и сторонились, как нечистого мелкого животного с дурным запашком. Есть в роду людском такие отверженные — всем они нелюбы и постылы…
Когда не везло в делах сердечных, Скридон утешался попросту: «Все у девок шиворот-навыворот, точно враг я им! Вымотают душу, а сами смотрят на тебя, как на квелый огурец…»
Вот и сейчас, снова здорово — добром спросил у Рарицы: «Что стряслось, жинка? Негоже столько слез лить, молоко пропадет». А она… Словца из нее не выудишь, глядит из-под одеяла влажными глазами, как разрешившаяся корова, у которой теленок не дышит. Годы ли свое берут? Под сорок Рарице, повеяло на нее тоской надвигающейся старости. Смотрит на мужа: сидит он, дуется, росточком со скалку — пенсию пора получать, не по роддомам околачиваться. Ох ты, господи, кто будет растить малыша, кто его на ноги поставит?..
Да, не красили деда Кирпидина прожитые годы и беды-неурядицы, к старости пуще прежнего высох, съежился-скукожился. От Рарицыного молчания горько ему стало, жалко себя: жизнь протекла песком зыбучим, а ты как был сызмальства ничейный, так и поныне не нужен никому, Скридонаш. И что-то белое опустилось, накрыло больничную комнатушку с побеленными стенами, а с ней и судьбы людские… Тишина, словно ватная, знакома человеку, который примирился со своей участью, покорно склоняет голову, молчит, и молчание его тягостно. Похоже оно на пустоту и бесконечность белых волнистых снегов, укрывающих поля, леса и перелески, чащобы в зарослях терновника — конца-края снегам тем не видно. Если смотреть долго-долго, пристально, небо на твоих глазах медленно перевернется вверх дном, а сам ты, как ослепшая от потоков света бабочка, забьешь крыльями, сорвешься с места — и летишь над белизной бескрайней, ныряешь, кувыркаешься в мириадах лучей. Уже не куполом высится небо над грешной землей — стелется оно по холмистым заснеженным полям, тонет в оврагах, цепляется за голые колючие кусты. Паришь над этим небом, а под тобой тень скользит… От твоих крылышек беспомощных эта тень? Или черным колокольным языком качается молчание где-то там, внизу? Нет, послушай… Вся белизна до окоема — это огромный белый колокол, вот загудел он: «Бим-бам-м-м! Бам-бо-о-ом-м-м!» — и гудит, не умолкая, до боли в ушах…
Мош Скридон сморгнул, провел по щеке — задумался крепко или соринка в глаз попала…
— Что скажу, Рарица. Давай парнишку назовем… Николай Спиридонович — как тебе?
Читать дальше