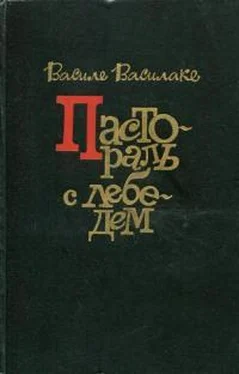— Х-хе-хе, хороша водица, да девица краше. Не бойся бади… Баде плохого не сделает. Только будь умницей, не кричи, не то утащу в лес, тебя там муравьи загрызут…
И словно волк ягненка, подхватил ее на руки и понес на вершину холма, заросшего кустарником и густой травой, и дальше — в лесок, и все нашептывал что-то потрескавшимися, пересохшими губами. Исчезла Рарица, скрылась за темной зеленью листвы, как лягушонок с розовым брюшком, зарывшийся в ил ручейка.
А Надя уже о себе речь повела:
— Со мной-то что делалось, баде Скридон! Словно комок змей в груди зашевелился. Саднит сердце, томит… сосет, как змея лягушку, а та еще живая, бьется из последних силенок. Чую неладное, заголосила: «Фа, Рарица, фа! Где ты, деточка моя, отзовись, откликнись!» Кричу, а у самой в горле точно песку насыпано, дышать нет сил. Знаю, она рядом где-то, в балочку побежала, к роднику. В ответ ни звука — и холмы, и небо, и воздух, все замерло, ветерок не шелохнет, а солнце палит в зените. Зажмурилась, кричу, сколько хватит голоса, открыла глаза — вроде холм ближний вздрогнул, раз, другой… Завопила я благим матом и чуть оземь не грянулась: холмы в округе ходуном ходят! Замолчала, жду… Окаменели опять холмы-пригорки. Нет, думаю, голову напекло, чудится. Сердце вот-вот выскочит — все, говорю, конец мой пришел, ноги подломятся, упаду, а подняться сил не достанет. Сверху белые уголья раскаленные сыплются, земля пышет, что твоя сковородка со шкварками, сердце то колотится, как оглашенное, то замрет… Ох, думаю, кто меня здесь похоронит?
Надя поправила платок, обмотала концы вокруг шеи.
— Господи, баде Скридон, такая меня злость разобрала! Давай рвать, что под руку попадет, и бурьян, и кукурузу, и пустырник с клевером, лишь бы зелени побольше, с корнями, с землей — за пазуху напихала и на голову, на макушку, не то солнце проклятущее доконает. — Надя разгорячилась, сдернула платок. — Поостыла капельку и думаю: вот дура, я здесь надрываюсь, а Рарица себе прохлаждается. Новый колодец можно выкопать, пока она там воду набирает. Или кувшин у нее без дна?! Вдруг точно в спину меня толкнуло: что, если чокнутый какой-нибудь подкараулил девочку и душит, а я на нее грешу! Ой, горе… Заплакала, запричитала… Ноги ватные, подкосились, упала на поле — думаю, смерть моя пришла. Сколько пролежала, уж и не знаю, слышу, трава на голове шуршит, листья кукурузные трутся друг о дружку, перешептываются: «Уймись-охолони, цела и невредима твоя Рарица, напилась родниковой водицы вдосталь, да не торопится тебя напоить». Поднялась я, откуда силы взялись: «Ах, чертова девка… Тяпку в сторону, и по полям валандаться! Своими руками тебя задушу, бездельница!» Подскочила, будто крапивой стеганули, вижу — Рарица идет, как ни в чем не бывало. Идет не спеша, нога за ногу, и улыбается, малахольная… «Ах ты дрянь, — кричу. — Утонула там, что ли?» Схватила сапу вместо палки — отделаю сейчас по спине! И что вы думаете, баде? Она сама в ноги бросилась: «Ой, леле, леле! Убей скорей, убей, не видать мне больше жизни!» — и слезами исходит, по земле катается.
Надя вздохнула, провела ладонью по щеке, словно паутину смахнула.
— Да, баде, бьется в корчах на земле, как подстреленная: «Лучше бы мне, бездольной, на свет не родиться! Как жить, боже… Осрамил меня бандит Бобу…» Кинулась я за кувшином, водой ей в лицо прыснуть. Куда там, одни черепки от кувшина — горлышко с ручкой в стороне валяется. Трясу ее за плечо: «Что, Рарица, что, говори!» Она головой о землю бьется, вся в пыли, оборванная, и вдруг на меня уставилась: «Лелика, а тебя… Он тебя не тронул?» Я и забыла, что на голове у меня сорняки да кукурузные будылья, с грязью пополам. Потом признавалась Рарица: «Вижу, леля, лежишь на земле, на голове трава зеленая. Ах, думаю, подлюга Бобу! Если он и сестру силой…»
…Столько бед натворила тень с автоматом у опушки леса. Посреди поля, заросшего и заброшенного, сидели, пригорюнившись, две сестры, как выпавшие из гнезда воробышки. Так горько не плакали и в тот день, когда хоронили отца с матерью. Выжженная эта земля была им защитой и опорой, а теперь все надежды иссушила, честь и доброе имя по ветру прахом развеяла. Горше Рарицы плакала-убивалась старшая, Надя, — додумалась послать своего цыпленка желторотого в безлюдные холмы, где средь бела дня бродят тени с автоматами на шее!.. И стала она призывать все кары господни на голову злодея: чтоб его, убивца, живьем в землю закопали, чтоб принял он смерть лютую, неминучую, да пошлет ему матерь пречистая, заступница, муку мученическую, и пусть высохнут его кости под жарким солнцем, как иссыхают от слез души двух сестер, и воронье пусть кружит над ним и каркает до скончания мира, в синей вышине, черное воронье!
Читать дальше