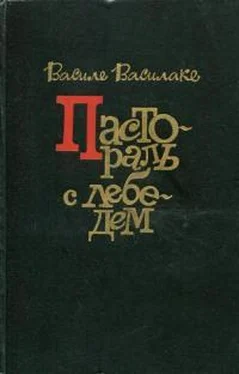— Складно говорите, дочка, раньше так одни попы читали по святым книгам, да помню, мой покойный отец повторял: «Много слов — делу помеха». В семье у нас было, со стариками если считать, пятнадцать ртов… Как-то объявили по селу: кто не ходит в школу, плати штраф. Отец погнал меня: «Ступай, нет у меня денег на штрафы». Сижу в первом классе, зовет батюшка Кристиан к доске. Тогда попы и вере учили, и арифметике… «Возьми мел, говорит. Сколько пишем? Сколько в уме?» Я и подумала: писать надо много, чтобы не забыть, а запоминать поменьше — забудешь, так не жалко. Мы тогда складывать учились, помню как сейчас, восемь и девять… выходит семнадцать. «Сколько пишем?» — спрашивает батюшка. «Семь», — говорю. — «Почему семь?» — «Потому что это много». — «Так что больше, семь или один?» Я отвечаю: «Семерка, батюшка». — «А единица почему в уме?» — «Потому что это мало, батюшка». Он и говорит: «Ах ты гусыня…»
Старушка хихикнула: видали? Не забыла, как выполняли сложение в ее время.
— Наш заготовитель тоже так принимает сушеные сливы, — где семнадцать, там у него семь больше единицы, а единичку он забывает… пишет семерку, а десятку — себе в карман!.. Батюшке не понравилась такая арифметика. «Глупая, — набросился на меня, — зря с тобой время теряю. Пойди спроси у матери, почему она крестится, когда начинает поле свое копать».
Сидящие за столом никак не могли взять в толк, куда она клонит. Почему застряло у бабки в голове число «17», в котором семь пишется, а единица, то есть десятка, остается в уме? Да еще единица в уме больше, чем написанная «семь», и почему у заготовителя по сливам единица становится красненькой десяткой в кармане? Таким манером когда-то бухгалтер Костэкел изъяснялся, а потом взял да и помер.
Жених думал: «Засиделась за печкой, умом слабеет. Жмурки какие-то затеяли, считалочки… Начала с единицы, сейчас заявит, что два — это любовь, а лучше святой троицы ничего не придумали, а наш мир за семь дней…»
— К чему вы это, бабушка?
— Просто так… Смотрю на тебя — один да один сидишь. Где твоя невеста? Все куда-то ходишь, а мы у тебя так, в уме, про запас, да? Мы тут ждем, болтаем, язык без костей… А скажи, что слышно о свадьбе? Я хочу… Слушай, я буду танцевать на твоей свадьбе!
Она вытерла глаза, отогнав смешки да шуточки.
— Скажи, сынок, зачем мне жить, сухой коряге? Одна тень от бабки осталась. Вот думаю: почему я живу, а твой отец умер? И вспомнила семерки с единицами… Война научит арифметике, Тудораш. Смотрю в телевизор, и дня нет, чтобы с пушкой не баловали…
…Эх, сидеть бы сейчас парню рядом с невестой или ради воскресного денечка повыкаблучиваться со сверстниками на гулянье. Но он покорно выслушивает стариковские бредни, пока в центре села, на хоре, визгливо хлопочет флейта и вторят ей клекот кларнета с барабанным «здуп-здуп-здуп».
Тудор осиротел, когда ему и пяти лет не было, как всякий сирота, рано окунулся в домашнюю круговерть: «Сходи на мельницу, сынок…», «Загляни в сельсовет…», «Поработай сегодня за меня в колхозе…».
Тудору казалось, он одуреет от этой нудги, тягостной и неизбежной, как зима после осени. Изо дня в день одно и то же, что для пшеницы или подсолнуха, что для человека — монотонна крестьянская жизнь. Но нашлось спасение — десятилетка, потом армия. Парень без труда щелкал задачки по физике, выводил формулы, на флоте его быстро приметили, там у него и следа не осталось от дедовских страхов: «За нашей околицей лежит мир необъятный и враждебный…» Тудору легче было болтаться на подлодке по зыбким хлябям, чем сидеть на приколе в отцовской хате. Солены океанские волны, но есть размах для души, это вам не корыто с водой перед порогом.
Как человек, много повидавший, он на все имел особое мнение. Пусть бабушка подкидывает свои загадки, пусть умничают родичи, у него своя голова на плечах. За четыре года службы стал отличным механиком и водителем первого класса, не зря председатель давно заманивает его в колхоз заведовать гаражом. На что ему гараж, если он по Гонконгу да по Сингапуру шуршал клешами и провожал закаты над Мысом Доброй Надежды! Оживали наяву перед глазами рассказы учителей на уроках истории и географии, от которых в старших классах дух захватывало.
А что видели его родственники? Коптили небо на своих гектарах, прожили жизнь в своих домишках, под теми же крышами состарились, и долгие их речи слышались Тудору не то шепотом, не то исповедью дерева, покрытого жухлыми листьями. Эти люди словно орешник в сентябре: орехи пооббивали мальчишки, лишь сморщенная кожура валяется на земле. Как-нибудь под утро грянут заморозки, и с шорохом опадут с деревьев медные чешуйки, а пока застыли в ожидании… Ни дать ни взять, осенний пейзаж, как в любимой песне дядюшки Никанора: «Смотри, ласточки улетают, осыпаются листья ореха, а тебя все нет и нет…»
Читать дальше