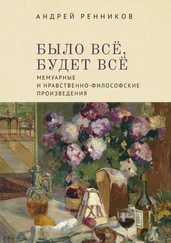«Возрождение», рубрика «О газетах и книгах», Париж, март 1955, № 39, с. 133-135.
Константин Николаев
А. М. Ренников. «Минувшие дни»
Изумительный по внутренней духовной красоте и правде этюд «Разбойник благоразумный» 356 356 Этот рассказ напечатан в сборнике А. М. Ренникова «Потому и сидим» (Алетейя: СПб., 2018, стр. 786-788).
(«Россия», 23 апреля 1954), написанный накануне Христова Воскресения, знаменует характер творчества А. М. Ренникова, а вместе с этим и непонятный наш русский характер. —
«Есть в православии одна сторона, отличающая нас от других христиан:
Исключительное проникновение в трагически просветленный образ благоразумного разбойника.
Молитвенные слова “помяни меня, Господи” глубоко входят в нашу душу, вызывая смиренное преклонение.
Для нас преступление не только грех, но и несчастье. Недаром наш народ называет каждого преступника “несчастненьким”. В его мистическом мироощущении несчастье преступления не всегда гибель души. В глубинном покаянии может сгореть всякий грех. Такое очищение открывает путь к Отцу даже разбойнику.
И только в русской литературе можно найти величайшие образы приближения человека к Богу после пленения дьяволом».
Откуда это дано нам, русским грешникам из грешных, но всегда взывающим ко Господу?
А дано это оттуда, откуда русское ощущение Праздника Воскресения Христова, и чудесно говорит А. М. Ренников:
«Это, действительно, праздник. Яркий, ликующий и всеобщий, и личный, и для всех, и для каждого, и для праведного, и для греховного, и для сильного духом, и для надломленного. Выпрямляется согбенная под тяжестью жизни душа, счастье заливает сознание. И храм Божий из обители молений превращается в сияющий праздничный зал, где Царь вселенной отечески любезно встречает и раскаявшихся разбойников, и вернувшихся блудных детей, и невинных младенцев – всех ласкает, всех целует, всем говорит то Слово, которое было вначале.
Какая радость и какое счастье быть православным».
Этими словами нашей правды, можно сказать, проникнуто все творчество поистине «маститого», тихого и радостно печального русского юмориста – А. Ренникова.
Когда-то в юности наш добрейший преподаватель истории спросил нас – откуда возникло Русское Государство. И мы в каком-то странном порыве провозгласили: «Неизвестно кто, неизвестно когда, пришел неизвестно куда, и оттуда пошла есть русская Земля». Преподаватель разгладил свою пышную бороду, удивленно на нас посмотрел и задумчиво заметил: «А, пожалуй, ты прав. Только это не все». И поставил пятерку. И чем больше вникаешь в смысл русского исторического бытия, тем больше понимаешь, что вся наша история и все мы – одна сплошная загадка. Но в основе этой загадки лежит задача, которую мы должны осуществить. И задание это дало нам «То Слово, которое было вначале».
И, подумать только, что какие-то скверно пахнущие Ярославские и Бухарины —псевдонимы и анонимы, полагали, что «пролетарское принуждение во всех формах, начиная от расстрелов и кончая трудовой повинностью, является методом выработки коммунистического человечества из человеческого материала капиталистической эпохи».
Ярославский в своей дикой и наглой глупости воображал, что его грязным лепетом можно затушевать образ Христа, тысячу лет живший и ныне живущий в душе грешного русского народа.
И русский крестьянин – христианин-представитель «коммунистического человечества» после всего воспитания мудрейшими, съевши посевную картошку, разбегается из колхозов, стремясь к «капиталистической свободе».
И тогда наше прошлое последних пятидесяти лет, освещению которого служит любовно и прекрасно изданная, и, мы бы сказали, уютная книга А. М. Ренникова «Минувшие дни», нашло правильное отражение.
«По каким соображениям – из любви ли к нам, или, наоборот, чтобы сделать нам радость, но упомянутые боги Цицерона (Тютчев «Цицерон») почему-то избрали в собеседники именно нас. Таковых роковых минут и такого шумного продолжительного пира далеко не испытывали в своем веку наши отцы и дети. Русско-японская война, первая революция, первая мировая война, вторая революция, белая борьба, эвакуация, блуждание по чужим странам.
Как начали мы пировать с языческими всеблагими в 1904 году, так и пируем до сих пор» (стр. 8).
«Прошлое с настоящим было тогда прочно связано и пространством, и временем, и землей, и людьми, и лицами, и соловьями».
А теперь, для нас эмигрантов, даже воображающих, что нашли «вторую родину – повсюду чужое. Свое – одна только память».
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу
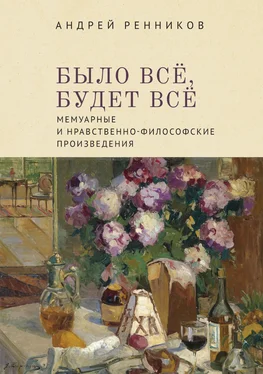
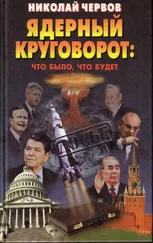

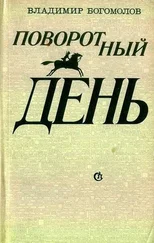




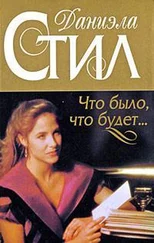

![Михаил Талалай - Цветы мертвых. Степные легенды [сборник litres]](/books/417804/mihail-talalaj-cvety-mertvyh-stepnye-legendy-sbo-thumb.webp)