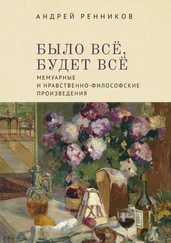Очень забавно рассказан путь автора к литературной работе и встречи с представителями тогдашней литературы.
Несколько необычную, но не далекую от истины дает автор характеристику Бунину:
«А Бунин уже с молодости проявлял сухость, черствость, и из всех героев своих повестей и рассказов любил только себя.
Если Куприн, в силу своей безалаберной жизни, писал хуже, чем мог дать его талант, то с Буниным было наоборот – благодаря своей усидчивости и тщательной обработке написанного, он казался всегда выше своего таланта.
К слову сказать, с нашими изящными академиками при выборе их произошло грустное недоразумение. Кандидаты-были – Чехов, Горький, Мережковский, Куприн, Бунин. Президент Академии – Великий Князь Константин Константинович – отклонил кандидатуру Горького из-за близости этого просвещенного босяка к революционным кругам. Чехов обиделся за Горького и отказался. Мережковский не попал в число бессмертных, кажется, за то, что интересовался “Черными мессами”, а Куприн своим образом жизни совершенно не походил на академика, особенно по ночам, когда академики должны спать и набираться сил для дальнейшей полезной деятельности» (стр. 96). Некоторые ясные признаки упадочности.
Относительно участия студенчества в революционных партиях автор замечает, что «социалисты-революционеры были еще не так страшны… и программа их была не так мрачна, как программа социал-демократов. Они считали самой лучшей частью населения России не только заводских и фабричных рабочих, но и мужичков, и даже трудовую интеллигенцию, поскольку эта интеллигенция согласна принять их революционные взгляды. Будущая Россия им рисовалась, согласно Лаврову, Михайловскому и Чернову, демократической республикой со всеми свободами и, разумеется, с отменой смертной казни за политические дела. А потому, для возможно скорейшей отмены смертной казни, необходимы террористические акты против губернаторов, градоначальников, околоточных и даже городовых» (стр. 15).
Поучительно. И все-таки: «Русское студенчество, и разрушая Россию, и охраняя ее, в своих побуждениях было самым чистым и благородным студенчеством в мире.
Это не западноевропейские студенты, носящие по улице плакаты с лозунгами: “Не давайте право практики иностранцам, окончившим наш медицинский факультет”» (стр. 21).
Как-то В. В. Розанов получил письмо Победоносцева, который писал, что он «привык, что его ругают за то, что я написал или сделал, а вы выругали меня за книгу “Социологические основы гражданского права”, которую я не писал».
А дальше Розанов пояснил, что он книг, данных для отзыва, целиком не читает. «Просмотрю несколько страниц, затем закрываю глаза и нюхаю. Это дает мне полную картину и стиля, и содержания» (стр. 81).
И наконец, уже из эпохи трагического апокалипсиса «бескровного», погрязшего в «эксцессах» февральского балагана.
«Поэтому образовавшееся тогда на коалиционных началах Временное Правительство нас не особенно испугало. С таким влиятельным человеком, как Милюков, Россия не могла погибнуть. В случае опасности он, в качестве министра иностранных дел, может заставить союзников помочь нам: его на западе хорошо знают по выступлениям заграницей, когда он приезжал туда жаловаться на царский режим. Кроме того, Милюков мыслил тогда великодержавно и мужественно. Ему нужен был Константинополь с проливами. А на Айю Софию он даже хотел водрузить крест, хотя сам в Петербурге не ходил в церковь».
«Министр юстиции Керенский подавал большие надежды. Всегда говорил твердо, уверенно по всяким вопросам и, судя потому, что стригся ежиком, представлялся человеком с сильной волей». И наконец: «Немалой популярностью пользовался вначале, до создания Правительства и сам Председатель Государственной Думы М. В. Родзянко. Будучи на голову выше большинства депутатов, широкий в плечах, грузный, он считался весьма крупной фигурой, вполне пригодной для того, чтобы символизировать необъятные просторы России». Очаровательный сарказм.
И когда кончилась Добровольческая эпопея, и автор с миллионами русских людей оказался за рубежом Родной Земли – то возник вопрос: за что? почему?
«Тогда потом, через многие годы дошел ответ до сознания. Понял тогда каждый, разбудив в себе совесть, что постигшая его жизнь не бессмысленный языческий пир с небожителями, а божеское наказание за грехи и ошибки. Познали беспечные и бездельные – тяжесть чужого труда; научились смирению чванные; презиравшие все родное – загорелись любовью; превозносившие чужое – прозрели. Равнодушные к Богу почувствовали Его перст, обратились с молитвой. И поняли впоследствии все, что увел нас Господь в чужие земли для того, чтобы наказанием не погубить, а спасти. Ибо по сравнению с оставшимися на родине братьями сделал нас счастливцами, оставив наказанным свой высший дар человеческому духу – свободу» (стр. 351).
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу
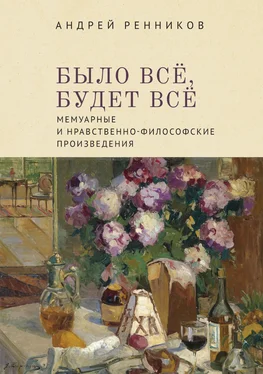
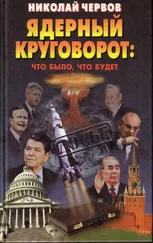

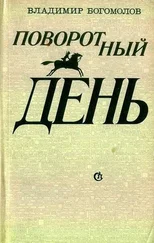




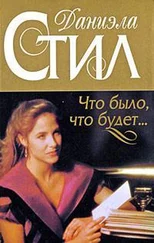

![Михаил Талалай - Цветы мертвых. Степные легенды [сборник litres]](/books/417804/mihail-talalaj-cvety-mertvyh-stepnye-legendy-sbo-thumb.webp)