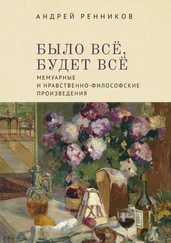Точно так же нет в истинном художественном слове искусственного научного анализа душевных явлений и деления психики на формальные группы, на мышление, чувство, волю. В словесно-прекрасном все эти части неразрывно участвуют вместе. Художественный психологический анализ по существу своему вовсе не анализ в научном смысле этого слова: тут просто один из досадных примеров злоупотребления терминами, взятыми из чуждой научной области. Задача художественного анализа вовсе не расчленения какого-либо комплекса явлений, а наоборот – выявление типических сторон объекта в общей картине.
И потому для словесного искусства нет никакой правды в экспериментальной психологии, в психофизическом параллелизме. Ничтожность и величие духа независимы здесь от материальных субстратов. Тут нет высших организмов и низших; звери Киплинга более одушевлены, чем люди Чехова. И смысл развития жизни и психики строится художественным словом не на случайностях слепой эволюции, а на внутренней связи процессов одушевленного мира.
Какова же, при таких свойствах эстетического познания, основная причина современного падения художественного творчества и художественного восприятия в музыке, в живописи, в пластике и в словесно-прекрасном?
Рассудочная наука, претендующая на единственное истинное изучение мира и обожествленная в наш век благодаря небывалому расцвету техники, считает свое фактическое знание выше всякого иррационального познания. Ей чужд, а потому и неприемлем, метод соборного познания, который лежит в основе творчества разума и творчества художественно-прекрасного. Для нее нет познания вне логики и вне измерительного прибора. Она требует при решении своих вопросов одиночно-объективного вывода; между тем, философское и художественное познание приближаются к своей правде многообразно. Это многообразие, заменяющее рассудочные законы логики, и соборность, заменяющая инструментально-измерительную объективность, противоречат научной методологии.
И вот почему, подчиняясь необязательному для себя авторитету научного мышления, современное извращенное искусство требует, чтобы его «понимали». Если картина сама по себе не производит никакого эстетического впечатления, если она похожа не на произведение искусства, а на загадочный ребус, то ее необходимо, по требованию знатоков, не просто воспринимать, а «понимать». Если новинка модного композитора не дает никакого рисунка в мелодии и не подчинена никаким законам гармонии, ее требуется «понимать» тоже. Точно такое же угадывание или напряженное «понимание» необходимо и при знакомстве с произведениями современного ваяния, зодчества и даже литературы. И это внедрение рассудочности в искусство, давая простор бесстыдной фальсификации, не только обесценивает художественное познание, но ведет к вырождению и всю ту великую область духовной культуры.
Вступление первичного человека на путь материальной культуры, создание слова, числа, измерения, практической науки и техники высоко подняло его в смысле приспособления и безопасности физического существования. При этих благоприятных условиях легче мог пробудиться анамнезис об утерянных истине, красоте и добре в виде проявления духовной культуры, в творчестве и в восприятии разумного, художественного, нравственного. Развитие этих двух сторон новой жизни по провиденциальному плану, очевидно, должно было идти параллельно, во взаимной гармонии: материальное благополучие облегчало бы условия духовного совершенствования; духовный прогресс направлял бы и углублял истинный смысл практической науки и техники.
В действительности же этой гармонии в истории человечества достигнуто не было в силу его греховной природы. При чрезмерном развитии технических орудий, то есть, искусственных «проекций» тела, стало соответственно изменяться и ощущение человеческого органического «я» и ощущение «моего». Псевдомоим, помимо собственного тела, стало до некоторой степени и то, что было только проекцией органов. «К орудиям, – как говорит Липперт, прикрепилась идея собственности». На первых ступенях, у первобытного дикаря, это чувство еще мало развито. Примитивный человек не так «оброс» вещами, как человек цивилизованный, у которого образуется неестественная страсть к накоплению материальных благ. Бушмен, например, весьма равнодушен к собственности; индейцы презирают скупость белых; в Южной Америке индейцы не признают права собственности на средства существования. Между прочим, этой чертой некоторые немецкие этнологи своеобразно объясняют гостеприимство, считая, что подобная черта – признак низкого культурного уровня. Очевидно, у таких ученых любовь к ближним находится вне их компетенции.
Читать дальше
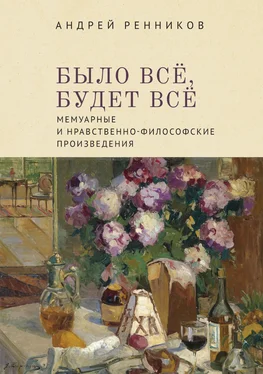
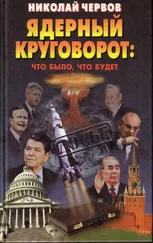

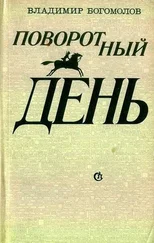




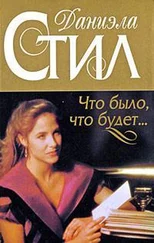

![Михаил Талалай - Цветы мертвых. Степные легенды [сборник litres]](/books/417804/mihail-talalaj-cvety-mertvyh-stepnye-legendy-sbo-thumb.webp)