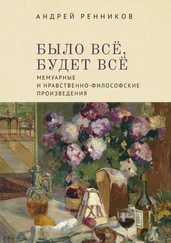Однако, с постепенным отходом западного общества от христианства, утилитаризм развивался и креп, несмотря на свою внутреннюю ничтожность. Поверхностному демократическому либерализму он как раз пришелся по мерке. А рядом с ним шло подтачивание христианской морали с двух сторон: от безбожного коллективизма социалистов и от крайнего индивидуализма модернистов, подменивших идею Божества собственным неограниченным «я». Экономический материализм низвел универсальный утилитаризм к утилитаризму частному, групповому, при котором борьба классов приводила к созданию отдельной морали для «угнетателей» и для «угнетаемых»; по существу, это – тип нравственности африканского людоеда: «добро – это когда я кого-нибудь съем, зло – это когда меня съедят». Что же касается литературно-философского модернизма, то дружными усилиями его представителей все нравственные ценности были уже окончательно перетасованы: человек заступил место Бога, смирение стало пороком, любовь к ближнему – злом, плотская невоздержанность – добродетелью…
И все эти учения распределились по своим местам в западноевропейском обществе: утилитаризм создал этику среднего буржуазного класса; экономический материализм освятил озлобление и зависть среди рабочего класса: эгоцентрический модернизм узаконил самомнение и презрение к нравственным ценностям среди утонченных представителей духовной культуры – поэтов, художников, эстетов – жрецов современного культа прекрасного.
Недаром эмансипированный от христианства западноевропейский обыватель уже в прошлом веке вызывал среди наших русских мыслителей чувство тревоги и страха. И. Аксаков говорил, что на Западе «душа убывает», что европейское просвещение обнаруживает какое-то «пустодушие». Герцен увидел в наступлении «самодержавия толпы» восход всеобщего «мещанства». Константин Леонтьев нашел здесь «уродливое сочетание умственной гордости перед Богом и нравственного смирения перед идеалом однородного серого рабочего». Страхов 321 321 Николай Николаевич Страхов (1828–1896) – философ, публицист, литературный критик.
утверждал, что европейская образованность ведет к нигилизму, что Европа потеряла дорогу. Достоевский ужасался при виде западного «глубочайшего аморализма».
И с таким нравственным багажом утилитаризма, экономического материализма и модернистского эгоцентризма цивилизованный европеец перебрался в XX век, щедро делясь этими сокровищами с отсталыми народами Востока и Юга, главным образом, конечно, с «недоразвитою» Россией.
Экзистенциальная нравственность нашего времени построена уже не на принципе общей пользы, а на категорическом императиве личной выгоды. Эта личная выгода, дающая неисчислимое количество благ цивилизованной жизни, руководит нравственным поведением во всем: и в отношении к ближним, и в отношении к своему коллективу, и в отношениях к чужим народам. Хотя современное общество, по мнению нашего философа Бердяева, «не знает, во имя чего оно живет», однако каждый член этого общества хорошо знает свое собственное имя; и своего имени ему достаточно, чтобы осмыслить жизнь.
Нынешний цивилизованный человек, действующий по принципам утилитаризма или экономического материализма, в общем миролюбивое существо; но волнуется и негодует он не тогда, когда сам затронет чужие интересы, а когда кто-либо посягнет на интересы его собственные. И мир он любит не потому, что мир есть нравственное общее благо, а потому, что мирная жизнь приносит более верный доход, равномерно насыщает желудок и дает максимум комфорта и развлечений. Такой утилитаристический обыватель по-своему и ближнего любит, но любит не как себя самого, а так, как тот любит его. Любовное отношение к ближнему вообще гораздо удобнее, чем враждебное, ибо легче приводит к кооперации и в предприятиях чистых или нечистых, создает благоприятные условия для совершения сделок. И любовь к обществу также проявляется у современного обывателя, особенно когда нужно массовыми выступлениями защитить свои профессиональные материальные требования. Разве в прежние времена проявлялась такая мистическая соборность душ, как в нынешних синдикатах? Совсем своего рода Церковь… И сейчас эту благостность единодушия можно встретить даже в среде европейских профессоров, организующих забастовки вместе с рабочими, подчеркивающих общность ныне идеалов.
И в этом смысле Аксаков был бы в настоящее время, пожалуй, неправ, говоря, что у цивилизованного европейца наблюдается «пустодушие». Пустоты в современном обществе сейчас нет, душа у него переполнена; но, увы, переполнена не теми потусторонними элементами, какие нужны были отжившей христианской морали.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу
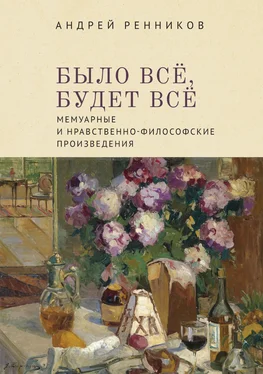
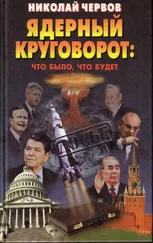

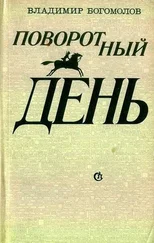




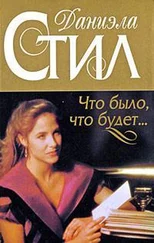

![Михаил Талалай - Цветы мертвых. Степные легенды [сборник litres]](/books/417804/mihail-talalaj-cvety-mertvyh-stepnye-legendy-sbo-thumb.webp)