Собственные же наши философские течения были вполне отличны от западных. Не только эмпиризм, скользящий по поверхности знания, но даже более глубокий рационализм оказались несвойственными русскому духу. У нас не создалось того благоговейного отношения к силам человеческого разума, какое царило на Западе.
Но – это не скептицизм, возникающий из разочарования: очарования разумом у нас вообще не было. Путь к познанию шел у русских мыслителей не через логику, не через категории рассудка, даже не через преодоление антиномий чистого разума, а через непосредственное религиозное, нравственное и эстетическое восприятие мира.
«Ум не есть высшая в нас способность, – говорит Гоголь. – Его должность не больше, как полицейская: он может только привести в порядок и расставить по местам все то, что у нас уже есть. Разум есть несравненно высшая способность… Но и он не дает полной возможности человеку стремиться вперед.
Есть еще выше способность, имя ей мудрость, и ее может нам дать один Христос».
У славянофилов И. Киреевского и А. Хомякова мы встречаем совершенно своеобразный взгляд на познание. «При познании истины, – утверждает Киреевский, – мы сами изменяемся. Если мы не изменяемся, не преображаемся, не растем духовно, то мы не можем познать истину. Это есть творческий акт. Через наше познавание ее, истина творит в нас нового человека… Живые истины – не те, которые составляют мертвый капитал в уме человека, которые лежат на поверхности его ума и могут приобретаться внешним учением… Истинное познание – это встреча Бога с человеком, когда все отдельные части души собираются в одну силу, отыскивая то внутреннее средоточие бытия, где разум и воля, и чувство, и совесть, и прекрасное и истинное, и удивительное, и желанное, и справедливое, и милосердное и весь объем ума сливаются в одно живое единство…»
У Хомякова, также не признающего обычные методы рационализма и эмпиризма, теория познания имеет характер уже не индивидуальной, а «соборной» гносеологии. Для него отдельный человек не в состоянии полностью постичь истину, так как силы его для достижения такой высоты слишком слабы. Познание истины доступно только совокупности мышлений, связанных между собою любовью.
Само собой разумеется, что все эти взгляды Гоголя и славянофилов относятся к познанию истины религиозной; но она для них, как почти для всех дальнейших русских мыслителей, – основная, завершающая собой все человеческие искания высшей правды, добра, красоты. У некоторых же к этому познанию через религиозный опыт присоединяется и элемент гносеологии эстетической: для Гоголя, например, художественное творчество отчасти есть акт религиозный.
Высоко ценя музыку, он утверждает, что музыка ведет к христианству, a, следовательно, и к познанию Бога. По мнению его, как и Достоевского «Красота спасет мир».
Таким образом и для Гоголя, и для славянофилов на одном только интеллекте, без основ религиозно-нравственных и эстетических, ни истинного познания, ни действительного «просвещения» в человеческом обществе достигнуть невозможно. «Торжество ума европейского, – говорит Киреевский, – обнаружило односторонность его коренных стремлений, потому что при всем богатстве частных открытий и успехов в науках общий вывод из всей совокупности знаний представил только отрицательное значение для внутреннего сознания человека; при всем блеске, при всех удобствах наружных усовершенствований жизни, самая жизнь лишена существенного смысла». Близки к этому взгляду и Ю. Самарин, поддерживавший богословские взгляды Хомякова, и И. Аксаков, находивший зло не в самих науках, а в самоуверенности интеллекта, при которой исчезает ощущение божественного начала в мире.
Мировоззрение «западников» значительно отличалось от взглядов славянофилов при отсутствии у них религиозной основы. Но христианская мораль и мистический эстетизм невольно руководили их суждениями о ценности европейской культуры. Этого было достаточно, чтобы очень часто западники совпадали в своих выводах со славянофилами. Честно мысля, ощущая в себе искание правды, надеясь в позитивизме, в завоеваниях разума и в социальных утопиях обнаружить высшую справедливость человеческой жизни, западники не находили в жалкой действительности западного безрелигиозного быта осуществления своих надежд и мечтаний. Яркий пример этой трагедии являет собой Герцен: позитивно-настроенный, социальный идеалист, поборник свободы, защитник священности прав человеческой личности, он в конце концов пришел к той же оценке свободного позитивистического Запада, как и славянофилы. «Здесь, – говорит он, – с мещанством стираются личности… Все получает значение гуртовое, оптовое, почти всем доступное… Стотысячеголовая гидра, готовая без разбора все слушать, все смотреть, всячески одеться, всем наесться, – толпа сплоченной посредственности, которая все покупает и потому всем владеет…»
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу

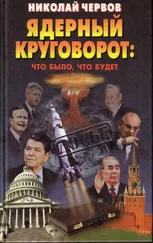





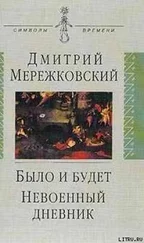


![Михаил Талалай - Цветы мертвых. Степные легенды [сборник litres]](/books/417804/mihail-talalaj-cvety-mertvyh-stepnye-legendy-sbo-thumb.webp)

