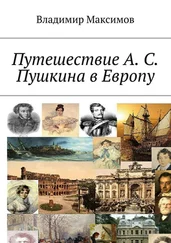Все делалось, все двигалось как-то сонно и беззвучно. И в этой давящей тишине вдруг дико и радостно взвизгнула дверь зимовья, и квадрат красноватого света исчез с травы.
Я словно очнулся от этого звука и, повернувшись к волку, увидел, что он лежит на другом боку. («Перевернулся все-таки!») Спиной к костру и мордой в направлении, откуда раздавался вой.
Я не знал, что навыла волчица волку. Но мне очень хотелось, чтобы она успела сообщить ему все что хотела.
Я постоял еще немного, вдыхая влажный холодный воздух, и пошел в зимовье.
Костер посреди поляны мигал уже прощально. Последними, дотлевающими, пепельно-серыми поленьями. И отблески костра видны были на тучах…
* * *
Я слез со скрипнувших от моего движения нар. Прислушался… Подошел к двери…
Состязание по храпу на три голоса не прекратилось.
Две собаки, видимые в мутном свете, сочившемся из малюсенького оконца зимовья, с готовностью подняли головы и посмотрели на меня, но, поняв, что я не зову их, опять опустили на лапы.
Я вышел из зимовья, шагнув в неуютную, холодную, сырую предрассветность. После духоты зимовья с запахом перегара и шерсти собак бодрящий воздух рассвета показался до невозможности вкусным. Его хотелось просто есть горстями, но я знал, что насытиться им невозможно.
Еще тлели в костре малиново-пепельные угольки.
И туман над травой поднимался лениво… Повиснув почти неподвижным пластом. И трава в низинке, у болотца, была серебряной от инея. И дранка зимовья на крыше тоже серебрилась.
Было росисто и холодно очень.
Внутри меня что-то подрагивало, как от озноба.
И мне было страшно. Я боялся волка. (Правда, еще больше я боялся разбудить охотников и собак.)
«Может быть, он все-таки умер?» – с надеждой подумал я…
Волк как будто раздулся за ночь. Теперь он снова лежал на боку, мордой к костру. И земля вокруг него была взрыта.
Он, так же как и вчера, внимательно смотрел на меня.
Шерсть у него была мокрая от росы. И задняя часть его туловища была, как периной, укрыта туманом, и от этого видимая половина волка выглядела неестественно и фантастично.
Морда у этого полуволка была тоже мокрая, как будто бы он безутешно долго плакал. И в слезных впадинах, у глаз, держались огромные чистые капли росы.
Комаришки-подлецы, неизвестно откуда взявшиеся в такой прохладе, спешили навампириться (вам пир, вернее, им был пир) и плотно облепили морду волка. Особенно там, где шерсть была совсем короткой и гладкой.
«Вот так всегда, стоит только сильному упасть – всякая дрянь, всякая мелочь пузатая из щелей повылазит».
И эта дикая несправедливость: то, что правит бал мошкара, пользуясь тем, что связаны лапы у сильного зверя; и то, что зверь не может теперь справиться даже с комаром, вернее, с комарихой, сосущей его кровь – вызывала жуткую тоску и ярость – до рези в животе.
«Лучше б ему умереть!»
Волк не вздрогнул и не отвел от меня глаз, когда я сбоку подошел к нему вплотную.
(Туман рассеивался, поднимаясь теперь быстро к вершинам неподвижных деревьев.)
Зрачки его были, как темный глубокий колодец…
Нож у меня был очень острый, но я все равно боялся волка.
«Не очеловечиваю ли я его – в лучшем смысле этого слова. Не приписал ли я ему несуществующие чувства. Может быть, у него все проще и жестче – страшнее потому?..»
Наверное, из-за этих сомнений я и не доверял волку. (И простое дело казалось мне невыполнимым.)
Я накинул на волка старый, вытертый уже, овчинный тулуп, которым укрывался ночью, и навалился на него всем телом, чувствуя упругость его бока. Помню, мелькнула еще нелепая мысль: «Волк в овечьей шкуре», да из Крылова вспомнилось: «Ты сер, а я, приятель, сед»…
Нож у меня был очень острый… Он мигом разрезал веревки. Рука почти не чувствовала их сопротивления.
И волк лежал, как будто на закланье – тихо и покорно.
И только его глазное яблоко – белое с голубизной и с красными прожилками – страшно выворачивалось зрачком ко мне, пытаясь включить меня в свое поле зрения.
Последнюю веревку – так же быстро и резко, как на лапах, – я резанул за головой у волка. (Это она удерживала в его пасти палку.) И сразу отскочил вместе с тулупом, прикрываясь им, как щитом, и держа нож наготове.
Мое сердце билось в грудную клетку, как колот о кедрину: «Ух, ух, ух!»
И мне казалось, что этот гулкий звук, который отдавался у меня в ушах и голове, может разбудить охотников и собак.
Волк, все еще с палкой в зубах, «улыбаясь» (не с первого раза), встал на лапы-костыли. И тут же просел на них. Лапы подгибались, не держали его.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу