2
Томаша Менкину потянуло «туда». «Там» — для него означало удивительные места, уголки, где он чувствовал себя вольным, бродил, фантазируя на воле. Воля эта была нереальная, потому и места, удивительные уголки, по которым блуждал он, мечтая, казались ему нереальными. Он и пошел теперь «туда».
Стоило только вырваться из школы, стряхнуть с себя это бремя, как все стало ему представляться необычайным. И люди встречались удивительные. Забрел он на вокзал — все тут было особенное. И верно, мир должен был быть иным в те часы, которые у него забирала школа. Он не видел, не знал этот мир. С тех пор, как затянуло его в школьные шестерни, он потерял представление об этом мире.
От стен в зале ожидания несло знакомой вонью. И хотя погода стояла чудесная, на скамьях сидело несколько бабенок и парней, да две перекупки с птицей. Видно, все же приятнее под крышей, возведенной человеческими руками — под нею чувствуешь себя как-то естественнее, чем под голубым небосводом, слишком пышным для задерганного человека. Одна из женщин с бесконечной медлительностью отщипывала кусочки мякиша, бросала их в рот и пережевывала. Такой вот могла быть его мать; безвестное существо, сидит тут, затерянная в чужом мире, тупо ждет чего-то. Он очень легко вжился в ее положение и сразу нашел себя в незнакомом мире. Люди, сидевшие на скамьях, приехали в город да поскорей сделали, что им было нужно. И вот сидят. Город с его толпами людей, газеты, кинотеатры, книги — ничто, казалось, не могло послужить им развлечением. Мгновенно становились они никому не нужными, апатическими созданиями. С необыкновенной сосредоточенностью они предавались ощущению жизни, жадно занимая ум первым попавшимся на глаза предметом. Томаша больше всего поразила жующая бабенка, на месте которой могла быть и его мать. И дядя, и сам он — из того же теста. С непосредственностью врожденного опыта он понял, что для этой женщины даже ожидание поезда перерастает пределы действительности. Дядя, вернувшись из Америки, все время возвращался к тому миру, который когда-то знал в Кисуцах. Вздыхал: «Да, тут все по-прежнему!» И от этого испытывал облегчение, хотя прежней осталась и нищета, и знакомая капустная вонь, смешанная со смрадом нищеты. Дядя знал это и однажды выразился так: «За то время, что мы распашем клин целины, в Америке Свифт настроит себе десять фабрик». Томаш тоже не знал, как понимать мир, но он уже не хотел поддаваться своим ощущениям, вроде вот этой жующей бабенки.
Томаш хотел попытать счастья и потому задумал съездить «туда». «Там» в действительности означало город Врутки. Но он не мог назвать Врутки Врутками, чтоб не утратить неопределенность и безбрежность выдуманного мира. Когда-то он проезжал через Врутки, и придумалось ему, что этот большой перекресток по ту сторону Большой Фатры не более чем пригород несуществующего огромного города. Ветхие дома, тупики, которые здесь называют «рядами», грязные трактиры, железнодорожные мастерские, заброшенная фабрика, большой грохочущий вокзал в клубах дыма и пара — все это было ему по сердцу. Врутки — это было место, которое он мог населить образами собственной фантазии. Как большинство молодых людей, он давал себе волю всласть мечтать и кокетничать со смертью. В этом пригороде несуществующего большого города была не только угрюмость, но и своя уличная эротика. Жены, проводив до станции мужей, отправляющихся на службу, ловили взглядами незнакомых путешественников точно так же, как девчонки-подростки в коротеньких юбочках и девицы постарше. С тех пор, как вдоль реки Вага проложили железную дорогу, глухая турчанская деревушка превратилась в большой перекресток, тут перемешивались все национальности Центральной Европы — венгры, венские немцы, силезские поляки и чехи, мадьяроны, свои, турчанские земледельцы… За полвека намешалось тут всего, и получился особый народ, славящийся красивыми женщинами и щеголеватыми парнями. Вот она, даль Томаша, — на расстоянии четырех железнодорожных станций. Что он хотел там получить? — Хотел встретить человека. Известно было, что среди врутецких рабочих много коммунистов. Один из них был овеян легендой. Оттого, что никто не осмеливался упоминать о нем; нельзя было даже назвать его имени вслух, так как был он коммунист, и только шепотки ходили, мол, сознательный человек. Ездил в Москву. Представьте, сколько границ, скольких часовых должен был пройти — без документов, без всего, лишь бы попасть в Москву, потому что тут жить невозможно. Там ему сказали, что делать. Посадили на самолет, да и сбросили на парашюте. То ли уже сбросили, то ли собираются — такие ходили толки. Представьте, действительно, какой ведь сознательный человек, согласился-таки выброситься над Словакией! Да если бы я был где в другом краю, подальше от этих мест, ни за что бы не решился!
Читать дальше
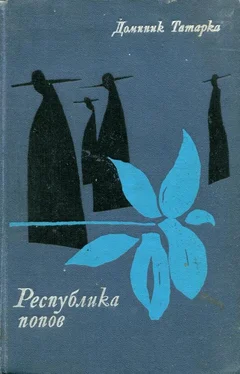





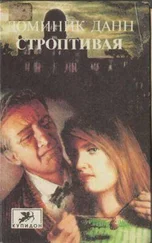


![Доминик Дюран - Коммунизм своими руками [Образ аграрных коммун в Советской России]](/books/420532/dominik-dyuran-kommunizm-svoimi-rukami-obraz-agrar-thumb.webp)


