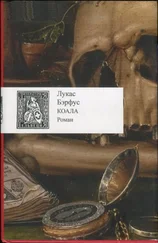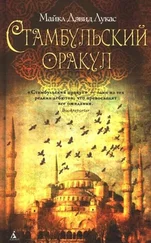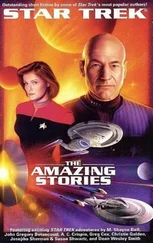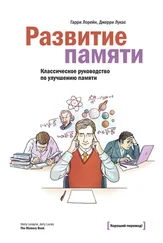На следующий день я приступил к прояснению этого мутного места. По моей оценке мне могло понадобиться несколько дней, самое большее неделя. Но с каждым часом, который я посвящал поправкам, проблема только расширялась. Поначалу это касалось лишь ближних окрестностей в моих выкладках, но потом перекинулось и на соседние области, пока в завершение всего не рухнула вся конструкция – и передо мной лежали одни обломки. Тут началась сплошная бессмыслица. До тех пор, пока я помалкивал и никому не рассказывал о моей экспедиции в неведомое, я был, несмотря на все опасности, в надёжной позиции. В худшем случае я унёс бы это всё с собой в могилу. Я потерпел бы поражение, да, но никто бы не узнал о моей неудаче, так что я мог бы убедить себя, что вообще ничего не потерял, кроме собственного тщеславия. Мною гордились, но шли недели, месяцы и годы, а книга, которая бы чёрным по белому привела доказательство, так и не появилась. Я опять сидел за своим письменным столом, но сидел уже иначе, согбеннее, подавленный более тяжким грузом. Речь уже не шла о решении, которое было якобы найдено – по крайней мере, мир так полагал. Да и проблема разрешилась. Никто больше не говорил об этом. Только я и мой коллега знали о тех поправках и починках, которым мне приходилось посвящать себя каждый день. Каждое утро я оказывался всё перед теми же руинами, которые вечером скрывались в темноте. Решение было всё таким же дефектным, как и моя уверенность, что я могу починить эту механику. Всякий раз, когда я предпринимал свежую атаку, я наталкивался на новую проблему. Как если бы мне приходилось расстелить ковёр в комнате, которая была для него слишком мала.
Он оборачивается, но видит только женщину, которая сидит в ряду позади него у раскрытого компьютера и пялится в него пустыми глазами. На задней стороне откинутого экрана наклейка: крест, к которому они пригвоздили мессию, и Он висит вверх ногами. Филип спрашивает себя, по какой причине это происходит; да верит ли эта женщина в Евангелие, или она из тех верующих, которые по вечерам пятницы совершают паломничество в большой зал на окраине, в промышленном районе, чтобы получить там от проповедника воскресения заверение, что её лично Бог любит. Но спаситель стоит вверх ногами. Разве она не подумала о том, что при раскрытом компьютере спаситель оказывается вверх ногами и она глумится над своим Богом? То ли она антихрист, то ли это просто невзначай? Этот вопрос проделывает в его мозгу три круга, прежде чем он понимает, что вопрос абсурдный и что ему и без того есть о чём побеспокоиться. Он должен позвонить Белинде. Не в полицию. В полицию – не раньше, чем он вернёт себе свою машину, свой бумажник и свою идентификацию. Только Белинде. Пусть она поставит в известность полицию и сообщит им, что всё в порядке. Ему необходим телефон.
Но всё бе́столку. Решения нет. Меня будут считать лжецом, авантюристом и мошенником. И справедливо. Вместо того, чтобы позаботиться об исправлении ошибки, я всё чаще спрашиваю себя, как я мог проглядеть эту ошибку. Может, намеренно? Может, я вытеснял понимание, чтобы найти выход из моей комнаты? Может, я был слишком слаб, чтобы признаться себе в поражении? Это бы не было позором. Я чувствовал себя как кошка, которая забралась высоко на дерево. Только что не мяукаю в просьбах о помощи. Я усомнился в собственной честности, да, но я не отступаюсь от того, чтобы работать дальше. Спустя месяцы я заключил, что эти месяцы прошли без малейшего успеха. Коллеги давно пронюхали о моих проблемах. На меня тайком поглядывали и пытались по выражению лица отгадать, как долго ещё до того момента, когда я поставлю крест на моём труде. И произойдёт ли это вообще. За это время я стал меньше ростом. Я терял размеры тела, спина начала скрючиваться от боли. С каждой мыслью, которую я попусту растрачивал на дело, оно становилось всё невнятнее, и я спрашивал себя, есть ли вообще решение и откуда оно могло бы прийти.
И тут помеха, перерыв. Филипу надоело. Надоела эта болтовня. Надоели загадки. Он выходит из зала, он покидает девушку и снова берёт свою судьбу в собственные руки. Дама на приёме говорит, что на нижнем этаже ещё есть старинный телефон-автомат. Таксофон с монетами. Великолепно. Он бросается вниз по лестнице. Там действительно висит аппарат из прошлого тысячелетия. Но это не монетный телефон. Его только так называют, а на самом деле этот аппарат требует карту, он не берёт мелочь. Возвратившись к приёмной стойке, он пытается объяснить свою нужду. Дама без слов протягивает ему телефонную карту, держа её кончиками пальцев. Хорошо. Сейчас. И вот он стоит перед кнопками таксофона. Номер Белинды. Десять цифр. Он их не помнит наизусть. Его умный телефон при каждом звонке показывал ему только лицо и имя, но никогда номер. Что теперь делать? Вера. Та же самая проблема. Но он знает свой рабочий телефон, хвала его памяти. Его центральный орган сохранил последовательность цифр, он набирает её кнопками и тут же, без промедления, в первую тысячную долю секунды звучит его собственный голос, который кажется ему чужим, и этот голос с лёгким сожалением объявляет, что его звонок в настоящий момент не может быть принят. Где же там Вера? Почему она не берёт трубку? Неужто она уже ушла домой? Может, всего лишь отлучилась в туалет. Или устроила себе перерыв и упражняется на своём голубом гимнастическом коврике. Он наговаривает на ленту автоответчика сообщение распорядительно, насколько этой сейчас для него возможно. Чтобы она ему перезвонила. Он называет номер, который значится на таксофоне. Вешает трубку. Ждёт. Ждёт целый час. Поднимает голову, когда кто-нибудь спускается по лестнице в поисках туалета. Через каждые несколько минут он смотрит на свой чёрный блок, не оживёт ли он, не накопит ли в своём аккумуляторе последний остаток заряда, но тщетно. Он один, отрезанный и отделённый от своей собственной жизни.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу