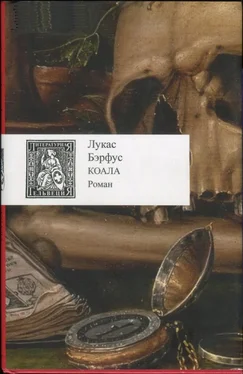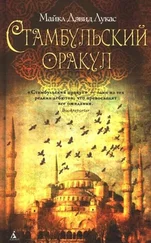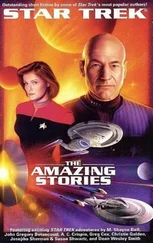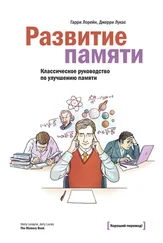Я был зван в родной город выступить с докладом о немецком писателе, который двести лет назад, — в Берлине, на озере Ванзее, ноябрьским днем, — отыскав на берегу укромное местечко, выстрелил сперва своей подруге Генриэтте Фогель в сердце, а потом и самому себе в глотку. В главном зале ратуши, могучее здание которой с шестнадцатого века громоздится на центральной площади, мне предстояло изложить пару-тройку мыслей о жизни и творчестве этого человека, но поскольку городок-то маленький и все заведения закрываются несусветно рано, надежду прилично поесть после доклада пришлось отбросить заранее и, дабы не остаться вовсе голодным, уже в шесть вечера усесться за ужин в ресторанчике на берегу реки, что рассекает городок двумя рукавами.
Наряду с организаторами мероприятия полчаса спустя, когда еду уже заказали, в ресторан явился мой брат и подсел к нашему столу. Я еще недели три назад ему позвонил и известил о своем намерении наведаться в родные места, хоть и был уверен, что само содержание доклада — попытки нащупать смыслы в сумрачно-смутном, подчас почти вовсе не доступном пониманию творчестве немецкого автора конца восемнадцатого столетия — его заинтересует мало. Возможность увидеться выпадала нам редко. В городке, который я двадцать три года назад отнюдь не по доброй воле покинул и где с тех пор бывать избегал, брат, напротив, обитал почти безвылазно. Слишком разные жизни мы вели, и кроме матери и нескольких, причем даже не всегда приятных общих воспоминаний, ничто не роднило нас, так что двух часов, по безмолвному согласию отданных соблюдению формальностей братства, нам обоим обычно хватало за глаза.
И сейчас ясно вижу, как в тот день, — дело было в конце мая, — он входит в фешенебельный, хоть и не без оттенка восточной экзотики, ресторан, полный хорошо одетой, по преимуществу молодежной, публики, и, высматривая нас в зале, замирает на фоне вереницы окон, открывающих вид на плакучие ивы и прибрежную цепочку домов вдоль реки, — стройный, аккуратно одетый мужчина лет сорока с небольшим, вежливый, корректный и, сразу видно, неженатый. Он сел рядом со мной, есть ничего не стал, заказал себе пива. В застольной беседе о литературе, об особенностях властно-лаконичного слога, которым прославился знаменитый автор и самоубийца, брат не участвовал. Сидел молча, изредка прихлебывая из бокала. Мне вспомнилось, что в нашем телефонном разговоре он подобную ситуацию предвидел, сказал, что в кругу моих почитателей ему будет не по себе, ничто не претит ему сильнее, чем неприкрытый подхалимаж. Мое возражение, — мол, ерунда, у нас обязательно выдастся возможность поговорить, — теперь все явственней оборачивалось ложью, с каждой минутой усугубляя во мне чувство неловкости. Поскольку сидеть приходилось на длинных скамьях, тела наши слегка соприкасались, и, похоже, это причиняло брату дополнительные неудобства. Он то и дело ерзал, пытался отстраниться, и я чувствовал — только учтивость удерживает его от того, чтобы немедленно распрощаться и уйти, — причем, хотя и мне, повторю, происходящее не доставляло никакого удовольствия, ничего необычного в таком поведении брата я не почувствовал: молчание его меня не удивляло, да и к его вечно обиженной мине я тоже давно привык.
Конечно, время от времени, — в паузах общего разговора или когда официант подливал напитки и подавал еду, — мы успевали перекинуться фразой-другой. Он сообщил, что дела у него не ахти, нелады с женщиной, с которой он познакомился несколько лет назад, а теперь, боится, этой любви приходит конец. Обстановка никак не позволяла вникать в подробности, но, даже будь мы наедине и никто бы нам не мешал, мы все равно не стали бы в них вдаваться. Если и возникало иной раз между нами чувство близости, оно ограничивалось молчаливым взаимопониманием сообщничества либо полунамеками в проброс, никогда не доходящими до самой сути, до разговора по душам.
Незадолго до восьми подали счет, все уже вставали, намереваясь переместиться в близлежащую ратушу, и лишь брат, которому предстояла ночная смена в ночлежке, — он там раздавал бездомным и наркоманам одеяла и белье, — распрощавшись со мной, уселся на свой небесно-голубой велосипед, более чем диковинное транспортное средство с высоким рулем, низким сиденьем и толстыми шинами, по виду больше смахивающее на мотоцикл. Драндулет этот никак не подходил ему ни по возрасту, ни по положению, и брат ясно осознавал это несоответствие, больше того, как будто черпал в нем странную запретную радость. Так он и укатил куда-то в сумерки, разом растворившись среди гуляющих, вышедших насладиться теплым весенним вечером.
Читать дальше