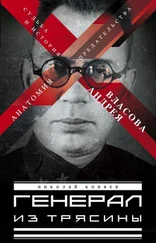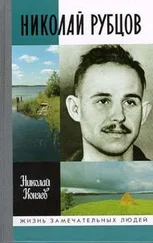А в те годы, о которых Ромашов читал в своей книге, сдвинулось пространство, и, словно скорлупки, лопнули стены между нарядными гостиными и чадными кухнями, и разноликие предметы и понятия, смешиваясь в хаос, посыпались в мир. И надо было по–новому назвать и полюбить их, определяя им место в бесконечной человеческой душе.
Несправедливость — это хаос. А парк и та книга, которую читал Ромашов, — торжество добрых вещей, названных и закрепленных навсегда. В его книге без обложки был удивительный рассказ о девочке, которая холодным утром уходит из дома, где умер отец, умерла мать, уходит в прекрасный и яростный мир, чтобы жить там и погибнуть. И чудилось, что в ее судьбе затаился отблеск судьбы самого писателя…
Выходя из парка, Ромашов вглядывался в надвигающиеся на мир жилые массивы, в лица людей, идущих навстречу… Что–то общее было в этих домах и этих лицах. Как и дома, лица людей были почти неотличимы друг от друга, словно и их делали по типовому проекту. И казалось, что в этой надвигающейся безликости гибнет все: и парк, и старые городские дачи, и тот яростный, полный весеннего ветра мир, о котором читал Ромашов в своей разорванной книге. И страшно было самому стать таким же, как эти люди, но еще страшнее — остаться непохожим на них.
Однажды сестра разыскала эту книгу. Ромашов вернулся из парка и застал ее на веранде, с книгой в руке, с растерянным и позабытым в книге лицом.
— Хорошая книга, — сказала сестра, посмотрела на Ромашова и спросила испуганно: — А кто написал?
— Был один…
— Да? Хорошая книга, — сестра погладила книжку ладонью и аккуратно положила на кровать. — Я давно не читала так…
Еще в августе стекло в боковой раме лопнуло, и сейчас, когда ветер дул с пустыря, оно дребезжало, и на веранде было холодно.
— Ты не мерзнешь тут? — зябко ежась, спросила сестра.
— Нет, — неохотно ответил Ромашов. — Я уезжаю сегодня.
Осень… Парк… Рассказ из зачитанной книги…
Искусство соединяет души. Как в парке соединяется разноликое пространство, так и в книгах, в чужих и посторонних книгах соединяются души — неожиданной близостью сокращают книги долгие пути узнавания.
Вот это и хотел рассказать я о Ромашове и о беспечальном городе. О запущенном парке. О книге без обложки. О том времени, которое было самым главным в жизни Ромашова, хотя и казалось ему потом пустым и ненужным.
Когда он снова приехал сюда, уже наступила весна. Таял снег, и сквозь него обнаженно проступали позабытые осенью вещи: детские игрушки, посуда, проржавевшие ведра… Жить в старинных дачах было тесно, вещи теснили друг друга, словно стремились разорвать стены. Они взбирались на подоконники, иногда пытались жить и на улице, как помятая детская лейка, повешенная на изолятор под окном второго этажа. И не нужно было заглядывать за стекло, чтобы увидеть, как живут люди. Они жили здесь близко друг от друга со всеми своими радостями и печалями, на виду у всех. Все здесь пропахло людьми. И вещи вываливались из тесных жилищ, ускользали от людей в самостоятельную и беспутную жизнь.
А сестре пришла в голову странная и нелепая мысль. Кто–то из жильцов соседнего дома перебрался в прямоугольные кварталы и оставил ей старую телевизионную антенну. Надо было снять ее и поставить на новом месте.
Муж сестры уехал в далекую командировку, и помочь ей было некому — Ромашов приехал в самое время.
Все утро он лазал по крышам, еще пахнущим снеговой сыростью. Прелые доски скользили под ногами, но было не страшно. Дул с залива теплый, тугой ветер, и с крыши хорошо был виден парк. Там шло народное гулянье, провожали зиму — по синим от снега аллеям бежали, позванивая бубенцами, совхозовские лошади, запряженные в расписные санки.
Просматривались с крыши и кварталы новостроек. Там было сегодня пусто, должно быть, все катались на лошадях в парке… Еще Ромашов рассмотрел новый журнальный киоск, он бесшабашно сверкал краской и молодыми стеклами…
А потом сестра поила Ромашова чаем, и они неторопливо беседовали о семейной жизни. Сестра ходила уже на шестом месяце и боялась оставаться одна в огромной комнате среди безликих вещей.
— Ты приезжай, — сказала она. — Ведь надо же приезжать…
Может быть, так и было, потому что есть доброта вещей, и если наивно, по–детски поверить в нее, то и мир станет добрее. Может быть…
Затем Ромашов шел сквозь великий пустырь любви к белым кварталам новостроек. Микрорайон оказался неожиданно далеко, и потребовалось немало времени, чтобы пробраться сквозь сырость и запустение пустыря к надежному и сухому асфальту, где в киоске на углу жили журналы с далекими московскими именами. Ромашов взял один, и в электричке, рассматривая его, неожиданно наткнулся на странно знакомый рассказ.
Читать дальше
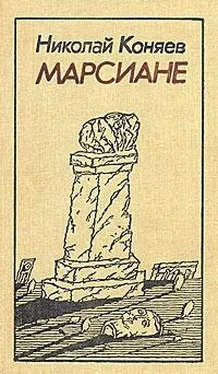

![Ким Робинсон - Марсиане [сборник]](/books/27420/kim-robinson-marsiane-sbornik-thumb.webp)