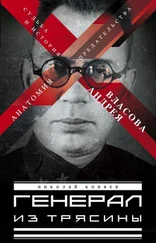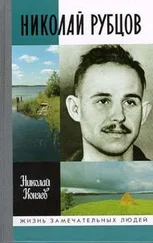Наступило то время года, когда так легко спутать пространство парка и своих дней. Откричали, пролетели над городом птицы, тихо и пусто стало в воздухе, и казалось, что пустота в жизни — только отзвук наступающей предзимней пустоты.
Дача, где Ромашов снимал все лето у сестры веранду, раньше принадлежала какому–то графу. Уже давно, должно быть, истлели его кости на парижском кладбище, а старая дача еще помнила своего хозяина и надменно относилась к новым жильцам.
Сестра занимала бывшую столовую — огромную комнату с лепным потолком и рваным линолеумом на полу. Неуютно было входить туда. Вещи, трудолюбиво собранные сестрой, казались здесь нахальными чужаками. Вызывающе дерзко отражались в неглубокой полировке шкафа стенные плафоны. Из рук прокопченного амура свисал пыльный электрический провод…
Пугала несовместимость образов жизни. Сестра жила в этой комнате с мужем. Вечерами, после работы, он задумчиво пил молоко, ругал Солженицына и думал, как бы наладиться с карьерой. Сестра тихо сидела рядом, слушала его, смотрела, как он пьет молоко, и думала о чем–то своем.
Так вот и жили. Темнело рано. Сумерки гасили уже сквозящий осенний пустой парк… Мир сжимался, вмещаясь в освещенное пространство веранды…
В ту осень Ромашову мучительно хотелось понять, почему жизнь не становится лучше, даже когда все хотят сделать ее лучше? Почему идеи всеобщего блага неизбежно снижают уровень духовности, низводят до нищеты уровень чувств и поступков?
Уже скоро должны были начаться занятия в институте, скоро предстояло перебираться в город, и Ромашов подолгу не ложился спать, словно спешил додумать до конца свою мысль.
А на пустыре какие–то люди жгли всю ночь костры, в багровом тревожном свете метались смутные тени, и неспокойно было на сердце.
Еще в ту осень у Ромашова была потрепанная книга без обложки, которую он нашел на складе макулатуры, куда ходил прессовать бумагу, чтобы сестра не думала, что он все лето болтался без дела.
И, перелистывая ее страницы, окутанные дымкой далеких дорог и человеческих судеб, Ромашов тосковал душою так же, как и при виде костра на пустыре. Тревожным и смутным светом была прохвачена эта книга.
«В горах и далеких окрестностях кто–то стрелял, уничтожая неизвестную жизнь… И тогда в ночь уходили поезда, и хрипло стучали с их площадок изношенные за войну пулеметы».
И сквозь этот рассыпанный мир, сквозь хаос чувств, событий и слов шли люди в ясный и просторный мир будущего…
«Кто странствовал тогда только по России, тому не оказывали почтения и особо не расспрашивали. Это было так же легко, как пьяному ходить по своей хате».
В этой зачитанной и уже затоптанной книге (на складе Ромашов поднял ее с сырого грязного пола) удивляло все, даже слова были новыми. Небрежно, почти неряшливо они становились рядом, образуя стремительные до головокружения смыслы. Своей новой точностью они как бы уже предопределяли организацию хаоса. И «люди молча и тайком собирались на гибель».
Иногда, чаще всего уже ночью, приходил к Ромашову приятель Кошкин. Кошкин тоже жил в то время смутной и непонятной жизнью, маясь от безделья и одиночества. Все время он о чем–то думал, копался в старых книгах и еще… еще он очень любил поговорить.
Он ходил по веранде и, размахивая руками, рассказывал о прочитанных книгах, о чернокнижном рынке, который тогда размещался на Литейном проспекте, об этом саде, с проспекта невидимом.
Ромашов слушал его и боялся, что голос Кошкина разбудит сестру в соседней комнате или, что еще хуже, ее мужа.
Про чернокнижный рынок, про сад, с проспекта невидимый, он знал и сам не раз заглядывал туда, где в ловких руках мелькали и Пастернак, и Ходасевич, и Цветаева, и Мандельштам.
Когда–то здесь действительно был Шереметевский сад, посаженный графом для своей, заточенной во дворце любовницы, но промотавшиеся потомки вельможи потихоньку распродали землю и скоро, уже к концу прошлого века, сад исчез за стеною доходных домов. Нынче его совсем не видно с проспекта, и можно десять раз пройти по Литейному, но так и не догадаться о нем.
С утра здесь сидели пенсионеры с газетами, в хорошую погоду старушки выкатывали внучат в колясках, но перед пятью часами все замирало, словно в предчувствии чего–то нехорошего — и действительно, вскоре заполняли сад смутные личности с чемоданами, полными книг. Начинался черный рынок.
Ромашов иногда бывал там.
Денег у него, конечно, как и у Кошкина, не водилось, но все равно было радостно смотреть на книги, о которых он думал. Владельцы книжных сокровищ располагались весьма основательно. Они раскладывали книги, занимая ими скамейки. Целый день они проводили в подворотне соседнего букинистического магазина, перекупая эти книги на ходу.
Читать дальше
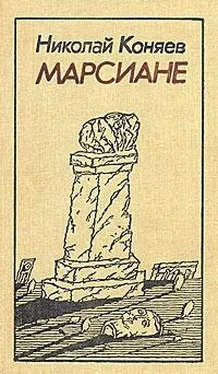

![Ким Робинсон - Марсиане [сборник]](/books/27420/kim-robinson-marsiane-sbornik-thumb.webp)