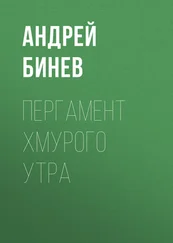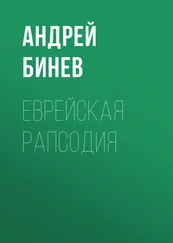– Бывает, – опечаленно протянул милиционер, сдвинув на затылок фуражку, – А сейчас чего?
– Чего, чего! Домой! В Москву! Кончился отпуск-то!
– Ну, ну! – растерянно закивал милиционер, – Счастливого пути тогда! А нам тут оставаться… Служба!
Павел сидел у вагонного окна, прислонившись к нему лбом. Пошел густой, бесконечный дождь, его хрустальные потоки старательно мыли стекла. У Павла в голове тяжелым колоколом гудела пустота.
Исчезновение Павла из Машиной жизни поначалу показалось ей даже избавлением. Она перестала бояться саму себя – и как бы так сделать, чтобы не рассердить его по пустякам, и как бы не быть хуже других, а для этого тайком коситься все время на женщин на улицах, в магазинах, в кино, и сравнивать, сравнивать, сравнивать себя с ними, переживать, ревновать просто к образу, к незнакомке, к возможной, не в прямом смысле, а вообще, конкурентке.
Это было унизительно и страшно, потому что за всем этим стояла ее отчаянная, низкая, жалкая самооценка. Ее тяготила военная форма, строгость ее будней, необходимость все время держать себя «в рамках», как говорили сразу два ее начальника. А что в этих рамках? Бумаги, бумаги, бумаги и рот на замке! Вот, что в этих рамках. Там нет жизни, нет воздуха, нет того, к чему хочется притронуться… И Павел был тоже частью этих «рамок». Последнее время Маше намекали на то, что не к лицу офицеру госбезопасности сожительствовать на незаконных основаниях с посторонним мужчиной, а этот, дескать, вообще из «нижних чинов» (так и сказали, к ее удивлению), надо, мол, и тут себя в «рамках» держать. Потому-то она и решила тогда уволиться и сказала об этом Павлу.
Но то, что Павел натворил весной сорок восьмого года, изменило и его, и ее жизнь так, что все последовавшее за тем можно было бы назвать «новой жизнью», выбивавшейся из всяких рамок, а не то, что принятых у нее на службе.
С исчезновением Павла, однако, ей стало легче. Сначала он звонил время от времени, случалось, правда, это крайне редко; сердце ёкало в груди, загорались щеки. Она, стараясь говорить весело, беззаботно, сообщила ему, что выходит замуж за Подкопаева, стала перечислять гостей, но Павел угрюмо молчал в трубку, не прерывая ее, и тогда она сказала, что не станет приглашать его, хотя Владимир Арсеньевич как будто настаивал даже. Павел и тут промолчал. После этого звонки прекратились.
Она не хотела съезжать с квартиры в Ветошном переулке, потому что все время ждала его. Ей казалось, что это единственная зацепка за их прошлое. Однако Владимир Арсеньевич радовался переезду в Рабочий поселок, в Кунцево, говорил, что в тех местах лучше, потому что там больше свободы, там воздух, там людям легче переживать то, что невозможно пережить в Ветошном, в котором все давит тяжелым камнем, а именно – прошлым и бесконечно серым настоящим.
Поселок этот лишь позже, в шестидесятом году, вошел в состав Москвы, а до этого был одним из густонаселенных районов ближайшего подмосковного городка Кунцево. Еще в те годы его за веселый нрав сильно пьющих обитателей прозвали Страной Лимонией или просто Лимонией. С этой его особенностью и Маше, и Владимиру Арсеньевичу еще предстояло столкнуться.
В пятьдесят седьмом году Маша узнала, что ее дом в Ветошном пошел на слом, да и переулок стал называться проездом Сапунова. Вот тут и оборвалась последняя ниточка, хоть как-то связывавшая ее с Павлом, пусть слабенькая, ненадежная, но все же поддерживавшая какие-то ее иллюзии!
Ей стало нестерпимо грустно, ведь найти ее теперь очень трудно. Этого ведь надо страстно захотеть, чтобы найти! Вряд ли о ней будут сообщать посторонним в адресном бюро – все же работник государственной безопасности, а к этому строгое, суровое отношение у властей. И это всё несмотря на то, что Маша уволилась через год после исчезновения Павла. Уже в мае сорок девятого она получила на руки гражданские документы и устроилась работать в отдел кадров строительного треста в Кунцево. Потому и квартиру они получили там, а не где-то в другом районе.
Очень скоро ее сделали заместителем начальника отдела, а в пятьдесят третьем, после смерти Сталина, назначили начальником. Это вышло не случайно: начальник, бывший до нее, стал сильно пить; первый запой начался уже пятого марта вечером, вышел он из него лишь в середине апреля, а второй поразил его первого мая. Из него он уже так и не вышел – попал в психиатрическую лечебницу с позорным, хоть и привычным для России диагнозом «алкогольный делирий», иными словами – «белая горячка» или «белочка», как нежно называли эту болезнь сами же больные.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу