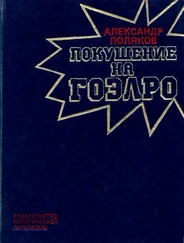Дорога в ад началась в селе Репки на Черниговщине, куда Николай с матерью дошли из своего пограничного городка, спасаясь от войны. Но война их настигла. Провонявший шнапсом полицай, из местных, предложил Ятченко: парень ты, мол, рослый, поступай к нам — не пропадешь, дело верное… Сдержаться Коля, всегда умевший постоять за себя, не смог. Опомнился в битком набитом эшелоне — их гнали в Германию. Ему удалось бежать, поймали в Польше, а дальше — тюрьмы в Торуни, Грудзендзе, Мальборке. И наконец — Штуттгоф.
Но прежде я хочу привести мысль одного хорошего писателя-фронтовика, сказавшего на встрече с читателями примерно следующее. О войне надо писать правду, это бесспорно. Но на страшной последней войне людям случалось пережить такое, что в подробностях описывать нельзя. Да, нельзя, потому что это выходит за пределы эстетических, нравственных норм литературы как искусства.
О многом, пережитом бывшим узником Штуттгофа и Дахау Николаем Федоровичем Ятченко, в очерке не расскажешь — не выдержат ни бумажный лист, ни законы жанра, ни нормальное человеческое сердце.
Итак, Штуттгоф.
Выстрелами, ударами прикладов и резиновых палок колонну узников подогнали к воротам. Как и прежде, до новичков, их открыл «швейцар» Володя — двенадцатилетний мальчик с измученными глазами старика.
Через много лет на удачной охоте Ятченко убил оленя и потом в избушке егеря не спал всю ночь. Он вспомнил: в гаснущих глазах прекрасного животного был взгляд Володи. Утром Николай Федорович отдал ружье егерю и уехал. Он бросил охоту навсегда.
«Быстрее пей и выходи!» Коля чуть замешкался, и от страшного удара грязные нары барака поплыли в желто-кровавых кругах. Потом били всегда и везде. За то, что попался под руку, за лишний вопрос, за жаркий день, за дождливую ночь. За то, что еще дышишь, тем самым нарушая отработанный ритм фабрики по уничтожению человека и всего в нем человеческого: да, дышишь, дерзкий славянин, и иногда, если не видит форарбайтер или блоковой, сквозь тяжесть распухших век плеснет твой синий взгляд на восток…
На работу и обратно их водили дорогой, вымощенной грубо отесанным камнем. Ее называли «штрассой» мертвецов. Две тысячи узников идут по ней, окруженные эсэсовцами с овчарками; все естественные звуки земли заглушают тяжелые шаги, и этот грохот отдается в плотных низких тучах, ближнем лесу, в изнуренном сердце. Ятченко сегодня еще сильный, и он поддерживает ослабевшего соседа. Через сорок пять дней после первого выхода на «штрассу» его тоже поведут под руки товарищи. Рацион питания был рассчитан точно: самый несокрушимый богатырь должен прожить в лагере не более пятидесяти дней.
…А по садовой листве снова защелкали капли. Но мы не обращаем на дождь внимания, мы смотрим на мемориал: потемневшее лицо узника, ряды колючей проволоки. Это над беседкой. А у входа в сад ворота и сверху — вырезанная из дерева фигура, в руках скрипка: итальянский композитор Динардо расстрелян в Дахау в 1944 году. Ниже — напряженные руки матери, закрывающие голову ребенка. Надпись: казнь в Штуттгофе 85 тысяч женщин, детей, мужчин; казнь в Дахау семи тысяч офицеров Красной Армии. Справа, чуть поодаль, в обрамлении благоухающей зелени, — фигуры Венеры, Весны; глухарь токует над цветочной поляной, скоро, совсем скоро расправят для полета крылья белые журавли — таков авторский замысел.
— Сейчас покажу главное: орган. — Ятченко оглядел меня посветлевшими глазами, пытаясь определить: уловлю ли я ту единственную поднебесную ноту, ради которой вырезались из дерева сотни тонких серебристых трубочек и труб? Потом усмехнулся: — Конечно, он не поет…
Не знаю. Возможно, причиной тому дождь, его шумные струи, вливающиеся с крашеными деревянными цилиндрами, но орган-памятник пел — тайно и неповторимо. А может, в нем отозвались голоса замученных, задушенных, сожженных заживо и голоса уцелевших, чьи имена прочитал я здесь. Спросил, долго ли Ятченко делал все это, но ответа не получил. Николай Федорович смотрел на скорбный профиль Данте. Он снова был далеко от меня.
«Ты должен быть гордым, как знамя; ты должен быть острым, как меч; как Данту, подземное пламя должно тебе щеки обжечь». Поэзия всегда была с ним. В самые отчаянные минуты неволи больной, истерзанный юноша говорил себе: «Ничего, со мною Шевченко, Пушкин, Брюсов». А пламя обжигало его не однажды: охранники, разглядев номер 14 466 («Как, ты до сих пор жив?»), швыряли Николая в костер. По счастью, они сразу теряли к нему интерес, и задыхающегося от дыма и жара парня подхватывали, несли к воде друзья-антифашисты. Пламя обжигало его острыми струями ледяной воды, которой палачи обливали больных в тифозном бараке, клокотало в глубоком рву у лагеря, куда эсэсовцы сталкивали обреченных нагих людей…
Читать дальше